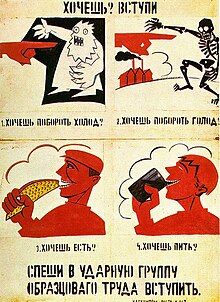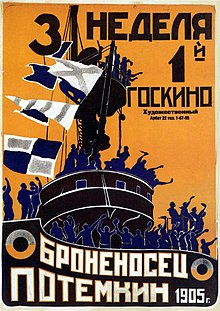This article is about the Soviet artistic organization. For the album by Sascha Konietzko, see PROLET•KULT.
|
Proletarian Culture |
|
|
Пролетку́льт |
|
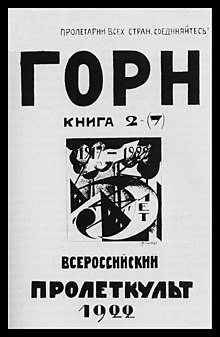
Cover of Gorn (Furnace), an official organ of Proletkult, designed by Aleksandr Zugrin |
|
| Formation | October 1917; 105 years ago |
|---|---|
| Founder | Anatoly Lunacharsky |
| Founded at | Moscow |
| Dissolved | October 1920; 102 years ago |
| Location |
|
|
Membership (1920) |
84,000 |
|
Key people |
Anatoly Lunacharsky Alexander Bogdanov Larissa Reissner Fedor Kalinin Pavel Lebedev-Polianskii Valerian Pletnev |
|
Main organ |
Proletarskaya Kul’tura |
|
Parent organization |
People’s Commissariat for Education |
Proletkult (Russian: Пролетку́льт, IPA: [prəlʲɪtˈkulʲt]), a portmanteau of the Russian words «proletarskaya kultura» (proletarian culture), was an experimental Soviet artistic institution that arose in conjunction with the Russian Revolution of 1917. This organization, a federation of local cultural societies and avant-garde artists, was most prominent in the visual, literary, and dramatic fields. Proletkult aspired to radically modify existing artistic forms by creating a new, revolutionary working-class aesthetic, which drew its inspiration from the construction of modern industrial society in backward, agrarian Russia.
Although funded by the People’s Commissariat for Education of Soviet Russia, the Proletkult organization sought autonomy from state control, a demand which brought it into conflict with the Communist Party hierarchy and the Soviet state bureaucracy. Some top party leaders, such as Lenin, sought to concentrate state funding and retain it from such artistic endeavors. He and others also saw in Proletkult a concentration of bourgeois intellectuals and potential political oppositionists.[citation needed]
At its peak in 1920, Proletkult had 84,000 members actively enrolled in about 300 local studios, clubs, and factory groups, with an additional 500,000 members participating in its activities on a more casual basis.
History[edit]
Factional background[edit]
The earliest roots of the Proletarian Culture movement, better known as Proletkult, are found in the aftermath of the failed 1905-1907 Revolution against Nicholas II of Russia.[1] The censorship apparatus of the Tsarist regime had stumbled briefly during the upheaval, broadening horizons, but the revolution had ultimately failed, resulting in dissatisfaction and second-guessing, even within Bolshevik Party ranks.
In the aftermath of the Tsar’s reassertion of authority a radical political tendency known as the «Left Bolsheviks» emerged, stating their case in opposition to party leader Lenin.[2] This group, which included philosophers Alexander Bogdanov and Anatoly Lunacharsky and writer Maxim Gorky, argued that the intelligentsia-dominated Bolsheviks must begin following more inclusive tactics and working to develop more working class political activists to assume leadership roles in the next round of anti-Tsarist revolution.[2]
Among the Left Bolsheviks, Anatoly Lunacharsky in particular had been intrigued with the possibility of making use of art as a means to inspire revolutionary political action.[3] In addition, together with the celebrated Gorky, Lunacharsky hoped to found a «human religion» around the idea of socialism, motivating individuals to serve a greater good outside of their own narrow self-interests.[4]
Working along similar lines simultaneously was Lunacharsky’s brother-in-law Bogdanov, who even in 1904 had published a weighty philosophical tome called Empiriomonism which attempted to integrate the ideas of non-Marxist thinkers Ernst Mach and Richard Avenarius into the socialist edifice.[4] (Lunacharsky had studied under Avenarius in Zurich and was responsible for introducing Bogdanov to his ideas.) Bogdanov believed that the socialist society of the future would require forging a fundamentally new perspective of the role of science, ethics, and art with respect to the individual and the state.[4]
Together all these ideas of Bogdanov, Lunacharsky, Gorky, and their co-thinkers came to be known in the language of the day as «god-building» (bogostroitel’stvo).[4]
These ideas did not exist in a vacuum; there was a political component as well. During the period between the failure of the 1905 revolution and the outbreak of World War I, Alexander Bogdanov stood as the chief rival to Lenin for leadership of the Bolshevik party.[5]
To the intellectually rigid Lenin, Bogdanov was not only a political rival, but also a positive threat to the ideology of Marxism. Lenin saw Bogdanov and the «god-building» movement with which he was associated as purveyors of a reborn philosophical idealism that stood in diametrical opposition to the fundamental materialist foundation of Marxism. So disturbed was Lenin that he spent much of 1908 combing more than 200 books to pen a thick polemical volume in reply — Materialism and Empirio-Criticism: Critical Comments on a Reactionary Philosophy.[6]
Lenin ultimately emerged triumphant in the struggle for hegemony of the Bolshevik faction. Relations between them in Western European exile remained tense. During the first decade of the 20th Century Bogdanov wrote two works of utopian science fiction about socialist societies on Mars, both of which were rejected by Lenin as attempts to smuggle «Machist idealism» into the radical movement.[7] The second of these, a book called Engineer Menni (1913), was pronounced by Lenin to be «so vague that neither a worker nor a stupid editor at Pravda [a rival publication] could understand it.»[8] In 1913 Bogdanov, a student of the Taylor system of factory work-flow rationalization, published a massive work on the topic, General Organizational Science, which Lenin liked no better.[8]
The pair went their separate ways, with Bogdanov dropping out of radical politics at the end of 1913, returning home with his wife to Moscow.[9] He would later be reinvigorated by the course of events to become a leading figure in the Moscow Proletkult organization — a fact which emphasizes the tension between that organization and state authorities.[10]
Birth of Proletkult[edit]
Preliminary conference[edit]
The February Revolution of 1917 which overthrew the Tsarist regime came comparatively easily. So, too, did the October Revolution which followed, events which overthrew the Russian Provisional Government of Alexander Kerensky and brought Lenin and the Bolsheviks to the seat of power. The Russian Civil War was another matter altogether — a long and brutal struggle which strained every sinew.
The radical intelligentsia of Russia was mobilized by these events. Anatoly Lunacharsky, who had briefly broken with Lenin and the Bolshevik Party to become a newspaper correspondent in France and Italy, returned to Russia in May 1917 and rejoined the party in August.[11] Following the October Revolution, Lunacharsky was appointed Commissar of Education of the new government.[11]
Lunacharsky’s factional ally, Alexander Bogdanov, remained sharply critical of Lenin and his political tactics and never rejoined the Communist Party, however.[12] Instead he served at the front as a doctor during World War I, returning home to Moscow in 1917 and becoming involved there as a founder of the Proletarian Culture organization, Proletkult.[12]
The aim of unifying the cultural and educational activities of the Russian labour movements first occurred at the Agitation Collegium of the Executive Committee of the Petrograd Soviet which met on 19 July 1917 with 120 participants. It was attended by many different currents, and when the Menshevik Dementiev suggested that the meeting just be confined to public lectures and that the Bolsheviks should be excluded, but this was soundly rejected. Consequently, the Central Council of Factory Committees was instructed to work with the Petrograd Soviet to organise a second conference of «proletarian cultural-educational organizations» to bring them together in a centralized organization.[13] A first conference of these groups was held in Petrograd from October 16 to 19, 1917 (O.S.).[13] The conclave was called by Lunacharsky in his role as head of the Cultural-Educational Commission of the Petrograd Bolshevik organization and was attended by 208 delegates representing Petrograd trade unions, factory committees, army and youth groups, city and regional dumas, as well as the Petrograd Committee of the Bolshevik and Socialist-Revolutionary parties.[14]
This October 1917 conference elected a Central Committee of Proletarian Cultural-Educational Organizations of Petrograd which included among its members Lunacharsky, Lenin’s wife Nadezhda Krupskaya, talented young journalist Larisa Reisner, and a long-time Vpered associate of Bogdanov and Lunacharsky named Fedor Kalinin, among others.[15] Also playing a key role was the future Chairman of the Organising Bureau of the National Proletkult, Pavel Lebedev-Polianskii, another former member of Bogdanov and Lunacharsky’s émigré political group.[16] Many of these would be catapulted into leading roles in the People’s Commissariat of Education following the Bolshevik seizure of power which followed less than two weeks later.[15]
After the Bolshevik seizure of state power[edit]
The October Revolution led to a marked increase in the number of new cultural organizations and informal groups.[17] Clubs and cultural societies sprung up affiliated with newly empowered factories, unions, cooperatives, and workers’ and soldiers’ councils, in addition to similar groups attached to more formal institutions such as the Red Army, the Communist Party, and its youth section.[17] The new government of Soviet Russia was quick to understand that these rapidly proliferating clubs and societies offered a potentially powerful vehicle for the spread of the radical political, economic, and social theories it favored.[17]
The chief cultural authority of the Soviet state was its People’s Commissariat of Education (Narkompros), a bureaucratic apparatus which quickly came to include no fewer than 17 different departments.[18] Headed by Anatoly Lunacharsky, this organization sought to expand adult literacy and to establish a broad and balanced general school curricula, in opposition to pressure from the trade unions and the Supreme Council of National Economy, which sought to give preference to vocational education.[19] The as-yet loosely organized Proletkult movement emerged as another potential competitor to the primacy of Narkompros.
This confusing welter of competing institutions and organizations was by no means unique to the cultural field, as historian Lynn Mally has noted:
All early Soviet institutions struggled against what was called ‘parallelism,’ the duplication of services by competing bureaucratic systems. The revolution raised difficult questions about governmental organization that were only slowly answered during the first years of the regime. Political activists disputed the authority of the central state, the role of the Communist Party within it, and the influence national agencies should wield over local groups. Altercations over scarce resources and institutional authority were intertwined with theoretical debates over the ideal structure of the new policy.[20]
Moreover, in the early revolutionary period control over local institutions by the central government of the Soviet state was weak, with factory workers often ignoring their trade unions and teachers the curriculum instructions of central authorities.[21] In this political environment any centrally-devised scheme for a division of authority between Narkompros and the federated artistic societies of Proletkult remained largely a theoretical exercise. In the early days of the Bolshevik regime the local apparatus of Proletkult retained the most powerful hand.[22]
With its adherent Anatoly Lunacharsky at the helm of Narkompros, the Proletkult movement had an important patron with considerable influence over state policy and the purse. This did not mean an easy relationship between these institutions, however. Early in 1918 leaders of Petrograd Proletkult refused to cooperate with an effort by Narkompros to form a citywide theatre organization, declaring their refusal to work with non-proletarian theatre groups.[23]
Moscow Proletkult, in which Alexander Bogdanov played a leading role, attempted to extend its independent sphere of control even further than the Petrograd organization, addressing questions of food distribution, hygiene, vocational education, and issuing a call for establishment of a proletarian university at its founding convention in February 1918.[24] Some hardliners in the Proletkult organization even insisted that Proletkult be recognized as the «ideological leader of all public education and enlightenment.»[25]
Ultimately, however, the vision of Proletkult as the rival and guiding light of Narkompros fell by the wayside, subdued by the Proletkult’s financial reliance on the Commissariat for operational funding.[26] Proletkult received a budget of 9.2 million gold rubles for the first half of 1918 — nearly one-third of the entire budget for Narkompros’s Adult Educational Division.[26] Requisitioned buildings were put to the organization’s use, with the Petrograd organization receiving a large and posh facility located on one of the city’s main thoroughfares, Nevsky Prospect — the name of which was actually changed to «Proletkult Street» (Ulitsa Proletkul’ta) in the organization’s honor.[26]
Proletarskaya Kul’tura[edit]
Proletarskaya Kul’tura (Proletarian Culture) was a journal issued by Proletkult from July 1918 to February 1921. The issues had a series numbered up to 21, which with double issues comprised 13 different publications[27]
Development[edit]
While the Proletkult movement began as independent groups in Petrograd (October 1917) and Moscow (February 1918), it was not long before the group’s patrons in the Soviet state intervened to help forge a national organization.[28] The Soviet government itself moved from Petrograd to Moscow in March 1918 and the center of Proletkult’s own organizational gravity shifted simultaneously.[29]
Lines became blurred between the Proletkult organization and the Division for Proletarian Culture of the People’s Commissariat of Education, headed by Proletkult activist Fyodor Kalinin.[29] While the organization retained its staunch supporters in the Narkompros apparatus seeking to coordinate activities, it also contained no small number of activists like Alexander Bogdanov who tried to promote the organization as an independent cultural institution with a homogeneous working class constituency.[29]
In September 1918, the first national conference of Proletkult was convened in Moscow, including 330 delegates and 234 guests from local organizations from around Soviet Russia.[30] While no delegate list has survived, the stenogram of the conference indicates that the bulk of attendees hailed from trade unions, factory organizations, cooperatives, and workers’ clubs.[31] Delegates were split between those favoring an autonomous and leading role for the organization in general education in Soviet society and those who favored a more narrow focus for the group as a subordinate part of the Narkompros bureaucracy.[32]
While those favoring autonomy were in the majority at the first national conference, the ongoing problem of organizational finance remained a real one, as historian Lynn Mally has observed:
Although the Proletkult was autonomous, it still expected Narkompros to foot the bills. The government would supply the central Proletkult with a subsidy, to be distributed among provincial affiliates. But because financial dependence on the state clearly contradicted the organization’s claims to independence, the central leaders held out the hope that their affiliates would soon discover their own means of support.[33]
Proletkult and its desire for autonomy also had another powerful patron in the person of Nikolai Bukharin, editor of Pravda.[34] Bukharin provided favorable coverage for Proletkult during the organization’s formative period, welcoming the idea that the group represented a «laboratory of pure proletarian ideology» with a legitimate claim to independence from Soviet governmental control.[34]
Proletkult made use of different organizational forms. In large industrial cities, the organization set up an elaborate bureaucratic apparatus resembling that of Narkompros.[35] Moscow Proletkult, for example, had departments for literary publishing, theatre, music, art, and clubs.[35] In addition to this central bureaucracy, Proletkult established factory cells attached to the highly concentrated mills and manufacturing facilities.[35] Finally, Proletkult established «studios» — independent facilities in which workers learned and developed the techniques of the various arts.[36]
Narkompros, for its part, sought to influence Proletkult to concentrate its efforts upon the expansion of the network of studios.[37] In April 1919, People’s Commissar of Education Lunacharsky declared that Proletkult «should concentrate all its attention on studio work, on the discovery and encouragement of original talent among the workers, on the creation of circles of writers, artists, and all kinds of young scholars from the working class».[38]
Proletkult and its studios and clubs gained a certain measure of popularity among a broad segment of the urban Russian population, particularly factory workers.[39] By the end of 1918 the organization counted 147 local affiliates, although the actual number of functioning units was probably somewhat fewer.[40]
At the peak of the organization’s strength in 1920, Proletkult claimed a total of 84,000 members in 300 local groups, with an additional 500,000 more casual followers.[41]
A total of 15 different Proletkult periodicals were produced over the course of the organization’s short existence,[42] including most importantly Proletarskaia kultura (Proletarian Culture — 1918 to 1921) and Gorn (Furnace — 1918 to 1923).[43]
Ideology[edit]
Historically, the relationship between the Russian liberal intelligentsia and the working class was that of teacher and student.[44] This situation presumed a «higher» level of culture on the part of the aristocratic teachers — an accepted premise of the Bolsheviks themselves during the pre-revolutionary period.[44]
Under Marxist theory, however, culture was conceived as a part of the superstructure associated with the dominant class in society — in the Russian instance, that of the bourgeoisie.[45] Under a workers’ state, some Marxist theoreticians believed, the new proletarian ruling class would develop its own distinct class culture to supplant the former culture of the old ruling order.[45] Proletkult was seen as a primary vehicle for the development of this new «proletarian culture.»
The nature and function of Proletkult was described by Platon Kerzhentsev, one of the movement’s top leaders in 1919:
The task of the ‘Proletkults’ is the development of an independent proletarian spiritual culture, including all areas of the human spirit — science, art, and everyday life. The new socialist epoch must produce a new culture, the foundations of which are already being laid. This culture will be the fruit of the creative efforts of the working class and will be entirely independent. Work on behalf of proletarian culture should stand on a par with the political and economic struggle of the working class.
But in creating its own culture, the working class by no means should reject the rich cultural heritage of the past, the material and spiritual achievements, made by classes which are alien and hostile to the proletariat. The proletarian must look it over critically, choose what is of value, elucidate it with his own point of view, use it with a view to producing his own culture.
This work on a new culture ought to proceed along a completely independent path. ‘Proletkults’ should be class-restricted, workers’ organizations, completely autonomous in their activities.[46]
Proletkult’s theorists generally espoused a hardline economic determinism, arguing that only purely working class organizations were capable of advancing the cause of the dictatorship of the proletariat.[47] An early editorial from the official Proletkult journal Proletarskaia Kultura (Proletarian Culture) demanded that «the proletariat start right now, immediately, to create its own socialist forms of thought, feeling, and daily life, independent of alliances or combinations of political forces.»[48]
In the view of Alexander Bogdanov and other Proletkult theoreticians, the arts were not the province of a specially gifted elite, but rather were the physical output of individuals with a set of learned skills.[42] All that was required, it was assumed, was for one to study basic artistic technique in a very few lessons, after which anyone was capable of becoming a proletarian artist.[42] The movement by Proletkult to establish a network of studios in which workers could enroll was seen as an essential part of training this new cohort of proletarian artists.[42]
Despite the organization’s rhetoric about its proletarian exclusivity, however, the movement was guided by intellectuals throughout its entire brief history, with its efforts to promote workers from the bench to leadership positions largely unsuccessful.[49]
Influence on the various arts[edit]
Literature[edit]
Proletkult expended great energy in attempting to launch a wave of worker-poets, with only limited artistic success. The insistence upon developing new poets of questionable talent led to a split of the Proletkult in 1919, when a large group of young writers, most of whom were poets, broke from the organization due to what they believed to be a stifling of individual creative talent.[50]
These defectors from Proletkult initially formed a small, elite organization called Kuznitza (The Forge) before again launching a new mass organization known as the All-Russian Association of Proletarian Writers (VAPP) a year later.[50]
Theater[edit]
The Proletkult organizations of Petrograd and Moscow controlled their own dramatic theatrical network, including under its umbrella a number of smaller city clubs maintaining their own theatrical studios.[51] Petrograd Proletkult opened a large central studio early in 1918 which staged a number of new and experimental works with a view to inspiring similar performances in other amateur theaters around the city.[51] Moscow Proletkult opened its own central theater several months later.[51]
Proletkult constituted the leading center of a radical minority within the theatrical community of the day which aspired to promote so-called «proletarian theater.»[52] Development of this new form was defined in one early conference resolution as «the task of workers themselves, along with those peasants who are willing to accept their ideology.»[52] Conventional modes of performance were discouraged, in favor of unconventional stagings designed to promote «mass action» — including public processions, festivals, and social dramas.[52]
Contemporary criticism[edit]
Artists in the Proletkult movement, while not by any means a homogeneous bloc, were influenced to a great extent by the iconoclasm, technological orientation, and revolutionary enthusiasm bound up in the thematic movements of the day, futurism and constructivism.[53] Despite lip service paid to classical forms of poetry, drama, writing, sculpture, and painting, strong encouragement was given to the use of new techniques and forms in so-called «proletarian art,» including the use of photography, cinematography, and collage.[53]
This commitment to experimentalism drew the fire of those party leaders who preferred more classical modes of artistic expression. Petrograd Communist Party leader Grigory Zinoviev took the lead at a conference of «proletarian writers» held in that city in the fall of 1919, declaring that while previously «we allowed the most nonsensical futurism to get a reputation almost as the official school of Communist art» and let «doubtful elements attach themselves to our Proletkults.»[54] it was henceforth «time to put an end to this,» Zinoviev demanded.[54]
Also among those critical of the Proletkult movement and its vision to create a wholly new proletarian culture was top Soviet party leader Vladimir Lenin. At a public speech in May 1919 Lenin declared any notions of so-called «proletarian culture» to be «fantasies» which he opposed with «ruthless hostility.»[55]
More specifically, Lenin had profound misgivings about the entire institution of Proletkult, viewing it as (in historian Sheila Fitzpatrick’s words) «an organization where futurists, idealists, and other undesirable bourgeois artists and intellectuals addled the minds of workers who needed basic education and culture…»[56] Lenin also may have had political misgivings about the organization as a potential base of power for his long-time rival Alexander Bogdanov or for ultra-radical «Left Communists» and the syndicalist dissidents who comprised the Workers’ Opposition.[56]
Dissolution[edit]
By the fall of 1920, it became increasingly clear that the Soviet regime would emerge from the Russian Civil War victorious. With the fall of the Whites, a common enemy which united disparate factions around the Soviet banner, much unity was loosened. Dissident groups such as the so-called Workers’ Opposition and the Democratic Centralists emerged in the Communist Party, widespread dissatisfaction among the peasantry over forced grain requisitioning resulted in isolated uprisings. All of these factors prompted a wave of debate about the institutions that had sprung up in Soviet society during wartime, including Proletkult.[57]
Throughout its short history, Proletkult had sought both autonomy from state control and hegemony in the cultural field. This had created a substantial number of critics and rivals. These included leaders of the Soviet trade union movement, who saw the management of workers’ cultural opportunities as part of their own purview; local Communist Party committees, which sought centralization under their own direction rather than a hodge-podge of autonomous civic institutions; and the People’s Commissariat of Education (Narkompros), which believed its own mission included the cultural training of the working class.[58] Of these, Narkompros proved the most outspoken and unyielding in its criticism.[59]
Ever since 1918 Nadezhda Krupskaya — the wife of Vladimir Lenin — had sought to rein in Proletkult and integrate it under the agency in which she herself played a leading role, the Adult Education Division of Narkompros.[59] A May 1919 conference of adult education workers had, spurred on by Krupskaya, determined that Proletkult was an adult education agency owing to its studio system, and therefore rightfully part of Narkompros.[59]
Bureaucratic wrangling between top leaders of Proletkult and the Adult Education Division of Narkompros had produced a working agreement in the summer of 1919 bringing Proletkult formally under the auspices of the latter, albeit with its own separate budget.[60] This proved, however, to be a stop-gap and institutional conflict remained.[60]
Proletkult leaders subsequently made an effort to expand their movement on an international basis at the 2nd World Congress of the Communist International in August 1920, founding Kultintern, an international organization headed by Anatoly Lunacharsky.[61] The group’s grandiose vision and practical efforts to expand the Proletkult movement globally was particularly concerning to Lenin, himself a man of staid and traditional cultural tastes who had already come to see Proletkult as utopian and wasteful.[62]
Spurred to action by Lenin, in the fall of 1920 the governing Central Committee of the Russian Communist Party (bolsheviks) began to take an active interest in the relationship of Proletkult with other Soviet institutions for the first time.[60] Lenin sought and obtained information from Mikhail Pokrovsky, second in command at Narkompros, and top Proletkult leaders about the organization’s budget and semi-independent status and pushed through a decision to absorb Proletkult into Narkompros to end the situation of parallelism once and for all.[63]
The already scheduled National Congress of Proletkult, held in Moscow from October 5 to 12, 1920, was to be the occasion for the announcement.[63] While Lunacharsky, head of Narkompros but a patron of Proletkult and its interests, dragged his feet on the merger, the congress eventually — following long debate and a stern appeal to party discipline — formally approved the Central Committee’s decision to directly integrate Proletkult into Narkompros.[64]
The integration was not a smooth one, however, and Proletkult activists fought to the last ditch to retain organizational autonomy even within Narkompros.[65] The Central Committee reacted with a scathing decree denouncing Proletkult that was published in Pravda on December 1, 1920.
Legacy[edit]
Despite its formal termination as an organization, the Proletkult movement continued to influence and inform early Soviet culture. Historian Peter Kenez has noted the heavy influence of the Proletkult ethic in the work of pioneer Soviet filmmaker Sergei Eisenstein, director of the classic films Strike (1925), The Battleship Potemkin (1926), and October: Ten Days That Shook the World (1927):
The intellectual content of [Eisenstein’s] early films was profoundly influenced by his earlier association with Proletkult, a complex politicocultural movement that reached the height of its influence during the revolutionary period. […] [Its leaders] argued that the new, socialist culture would be profoundly different from what it replaced. In their view there could be no accommodation with the old world; the proletariat on the basis of its experience would create a new culture that would reflect the spirit of the collective. It followed that the new art had to emphasize not the accomplishments of individuals but those of the workers and peasants. Eisenstein was attracted to this movement because it justified the necessity of a complete break with the art of the ‘bourgeois’ world. All of his early films expressed, though in his own idiom, the ideology of Proletkult.[66]
In 2018, the avant-garde writing collective Wu Ming published the New Italian Epic novel Proletkult.[67]
See also[edit]
- Proletcult Theatre
- Russian Association of Proletarian Writers
- Socialist realism
- Working-class culture
Footnotes[edit]
- ^ Lynn Mally, Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley, CA: University of California Press, 1990; pg. 3.
- ^ a b Mally, Culture of the Future, pg. 4.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 4-5.
- ^ a b c d Mally, Culture of the Future, pg. 5.
- ^ Robert C. Williams, The Other Bolsheviks: Lenin and His Critics. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986; pg. 34.
- ^ For Materialism and Empirio-Criticism, see: V.I. Lenin, Collected Works: Volume 14. Abraham Fineberg, trans. Moscow: Progress Publishers, 1962; pp. 17-361. Details of Lenin’s writing process may be found in the same volume, page 366, footnote 11.
- ^ Williams, The Other Bolsheviks, pp. 169-170.
- ^ a b Williams, The Other Bolsheviks, pg. 170.
- ^ Williams, The Other Bolsheviks, pg. 171.
- ^ Lynn Mally argues that this traditional emphasis on Alexander Bogdanov as the «best known leader» of Proletkult helps obscure the fact that Proletkult’s ongoing battle for «autonomy» (samostoiatel’nost’) was in essence a fight with the state bureaucracy rather than the Communist Party, per se. See: Mally, Culture of the Future, pp. 37-38.
- ^ a b Sheila Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1970; pg. 310.
- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 295.
- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 89.
- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pp. 89-90.
- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 90.
- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 306.
- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 33.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 33-34.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 35.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 34.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 35-36.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 36.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 40.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 40-41.
- ^ Vasilii Ignatov, writing in Griadushchee (The Future) 1918, no. 4 (April 1918), pg. 15. Quoted in Mally, Culture of the Future, pg. 43.
- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 44.
- ^ «%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 — BuyaBook». buyabook.ru. Buy a Book. Retrieved 2 August 2020.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 44-45.
- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 45.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 45-46.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 46.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 46-47.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 48.
- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 94.
- ^ a b c Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 98.
- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pp. 98-99.
- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 99.
- ^ A. Lunacharsky, «Once Again on Proletkult and Soviet Cultural Organizations,» Izvestiia VTsIK, No. 80 (April 13, 1919), pg. 2. Quoted in Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 99.
- ^ Lewis H. Siegelbaum, Soviet State and Society Between Revolutions, 1918-1929. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1992; pg. 55.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 51. See especially footnote 57 on that page.
- ^ Siegelbaum, Soviet State and Society Between Revolutions, 1918-1929, pp. 55-56.
- ^ a b c d Robert A. Maguire, Red Virgin Soil: Soviet Literature in the 1920s. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968; pg. 157.
- ^ «Пролеткульт,» (Proletkult). Fundamental Electronic Library of Russian Literature and Folklore, feb-web.ru/
- ^ a b Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992; pg. 19.
- ^ a b Fitzpatrick, The Cultural Front, pg. 20.
- ^ V. Kerzhentsev, Oktiabr’skii perevorot i diktatura proletariata (The October Overturn and the Dictatorship of the Proletariat). Moscow: 1919; pp. 154-161. Reprinted in William G. Rosenberg (ed.), Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia. Second Edition. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1990; pp. 80-81.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 38.
- ^ «From the Editors,» Proletarskaia Kul’tura, 1918, no. 3 (March 1918), pg. 36. Emphasis in original. Quoted in Mally, Culture of the Future, pg. 38.
- ^ Siegelbaum, Soviet State and Society Between Revolutions, 1918-1929, pg. 56.
- ^ a b Maguire, Red Virgin Soil, pg. 158.
- ^ a b c Lynn Mally, Revolutionary Acts: Amateur Theater and the Soviet State, 1917-1938. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000; pg. 31.
- ^ a b c Mally, Revolutionary Acts, pg. 22.
- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 100.
- ^ a b Quoted in Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 100.
- ^ V.I. Lenin, Polnoe sobranie sochineniia: Tom 38, Mart—Iiun’ 1919. Moscow: Politizdat, 1969; pp. 368-369. Quoted in Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 107.
- ^ a b Fitzpatrick, The Cultural Front, pg. 22.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 194.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 196-197.
- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 197.
- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 198.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 200.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 199, 201.
- ^ a b Mally, Culture of the Future, pg. 201.
- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 201-202.
- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 203.
- ^ Peter Kenez, Cinema and Soviet Society, 1917-1953. New York: Cambridge University Press, 1992; pg. 61.
- ^ «Proletkult, Wu Ming. Giulio Einaudi Editore — Stile libero Big». Einaudi (in Italian). Einaudi. Retrieved 2 January 2019.
Further reading[edit]
- John Biggart, «Bukharin and the Origins of the ‘Proletarian Culture’ Debate,» Soviet Studies, vol. 39, no. 2 (April 1987), pp. 229–246. in JSTOR
- Sheila Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. Cambridge, England: Cambridge University Press, n.d. [1970].
- Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.
- Abbott Gleason, Peter Kenez, and Richard Stites (eds.), Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1985.
- Peter Kenez, The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1985.
- Lynn Mally, Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley, CA: University of California Press, 1990.
- Lynn Mally, Revolutionary Acts: Amateur Theater and the Soviet State, 1917-1938. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000.
- Hugh McLean, Jr., «Voronskij and VAPP,» American Slavic and East European Review, vol. 8, no. 3 (Oct. 1949), pp. 185–200. In JSTOR.
- Eden Paul and Cedar Paul, Proletcult (Proletarian Culture). New York: Thomas Seltzer, 1921.
- Zenovia A. Sochor, Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.
- Richard Stites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.
- George Watson, «Proletcult,» The Proletarian, vol. 6, no. 6 (June 1922), pp. 5–7.
- Robert C. Williams, The Other Bolsheviks: Lenin and His Critics, 1904-1914. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986.
External links[edit]
Media related to Proletkult at Wikimedia Commons
- Пролеткульт: пролетарская поэзия и материалы о ней,» (Proletkult: Proletarian poetry and materials about it). proletcult.ru (in Russian)
- «Пролеткульт,» (Proletkult). Fundamental Electronic Library of Russian Literature and Folklore, feb-web.ru (in Russian)
- Lynn Mally Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia (Complete online text provided by the publisher.)
О пролеткультах
ЦК нашей партии и по его директиве коммунистическая фракция последнего Всероссийского съезда Пролеткультов приняла следующую резолюцию:
В основу взаимоотношений Пролеткульта с Наркомпросом должно быть положено согласно резолюции IX съезда РКП теснейшее сближение работы обоих органов.
Творческая работа Пролеткульта должна являться одной из составных частей работы Наркомпроса как органа, осуществляющего пролетарскую диктатуру в области культуры.
В соответствии с этим центральный орган Пролеткульта, принимая активное участие в политико-просветительной работе Наркомпроса, входит в него на положении отдела, подчиненного Наркомпросу и руководствующегося в работе направлением, диктуемым Наркомпросу РКП.
Взаимоотношения местных органов: наробразов и политпросветов с Пролеткультами строятся по этому же типу: местные Пролеткульты входят как подотделы в отнаробраз и руководствуются в своей работе направлением, даваемым губнаробразам губкомами РКП.
ЦК РКП дает Наркомпросу директиву создавать и поддерживать условия, которые обеспечивали бы пролетариям возможность свободной творческой работы в их учреждениях[64].
Вероятно, одним из самых ранних документов, сформулировавших практику культурной политики большевистской партии, следует считать резолюцию ЦК РКП(б) «О пролеткультах», опубликованную 1 декабря 1920 года в «Правде»[65]. Она зафиксировала реакцию большевиков на решения I Всероссийского съезда культурно-просветительных организаций пролетариата (сокращенно Пролеткульт), состоявшегося в октябре того года, о полной организационной самостоятельности[66]. Коммунисты, фракция которых на съезде оказалась в меньшинстве, были не в силах противостоять этому решению. Партия большевиков, которая могла торжествовать по поводу очевидно скорого победоносного завершения Гражданской войны в России, с этим маленьким поражением мириться не пожелала. Она поступила подобно Петру Великому, который подчинил церковь государству путем ее интеграции в бюрократические структуры. РКП(б) сделала то же самое, превратив Пролеткульт в структуру Комиссариата народного просвещения.
К опубликованной в «Правде» резолюции прилагалось письмо, разъясняющее принятое в ЦК решение. Из него становится очевидным, что серьезное беспокойство большевистского руководства было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, исторически сложившимся независимым положением Пролеткульта от государства. Возникший в сентябре 1917 года и провозгласивший свою независимость от Временного правительства Пролеткульт после прихода большевиков к власти оказался в ложном положении рабочей организации, независимой от рабочего государства. Во-вторых, Пролеткульт пошел в отстаивании классовой природы культуры дальше большевистского руководства, заняв иконоборческую позицию ко всему – допролетарскому и непролетарскому – культурному наследию. Одно дело – утверждать наличие классового интереса в культурном артефакте. Другое – настаивать на необходимости особого классового языка пролетариата, который еще нужно создать. В практическом плане это значило бы погрузиться в эксперименты в области культурных форм и отказаться от арсенала апробированных инструментов просветительно-пропагандистской работы.
Оба нежелательных явления были объяснены привычным способом – буржуазным перерождением Пролеткульта, якобы переполненного «социально чуждыми элементами», которые развращали рабочих буржуазными теориями и декадентскими культурными практиками межреволюционного, упадочнического происхождения. Махизм, футуризм, богостроительство, идеализм и прочие интеллигентские «выдумки» – вот те термины, в которых большевистская резолюция клеймила идейные пороки Пролеткульта.
То, что партия в течение трех лет не настаивала на подчинении себе пролетарского самодеятельного культпросвета, обосновывалось в разъяснении тяжелыми внешними обстоятельствами. При этом одновременно подчеркивалось первостепенное значение руководства культурой со стороны большевистской партии:
Если наша партия до сих пор не вмешивалась в это дело, то это объяснялось только тем, что, занятая боевой работой на фронтах, наша партия не всегда могла уделять должное внимание этим насущным вопросам. Теперь, когда перед партией возникает возможность более обстоятельно заняться культурно-просветительной работой, партия должна уделять гораздо больше внимания вопросам народного образования вообще и Пролеткультам – в частности[67].
Момент, выбранный для вмешательства РКП(б) в работу Пролеткульта, свидетельствует о том, насколько важным представлялось большевистскому руководству подчинение культуры партийным идейным установкам и надзору. Действительно, до фактического окончания Гражданской войны было еще далеко: постановление появилось одновременно с началом массового террора в отношении военнослужащих врангелевской армии и гражданского населения в Крыму[68]. Впереди были крестьянская война 1921 года[69], массовый голод 1921 – 1922 годов[70], показательные процессы против церковных иерархов и социалистов 1922 года[71]. Задача «приручения» культуры оказалась более актуальной, чем многие другие «боевые» задачи.
Решая эту проблему, большевики не преминули заявить, что своими действиями они не посягают на свободу творчества. Более того: «…полная автономия реорганизуемых рабочих Пролеткультов в области художественного творчества обеспечена», поскольку партия берет на себя задачу избавить их от «мелочной опеки» со стороны государственных органов[72].
В разъяснениях ЦК РКП(б) много места уделено пассажам о том, что действия партии по обузданию рабочих культурно-просветительных организаций соответствуют «подлинным» интересам пролетариата:
ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества. ЦК ясно отдает себе отчет в том, что теперь, когда война кончается, интерес к вопросам художественного творчества и пролетарской культуры в рядах рабочих будет все больше и больше расти. ЦК ценит и уважает стремление передовых рабочих поставить на очередь вопросы о более богатом духовном развитии личности и т. п. Партия сделает все возможное для того, чтобы это дело действительно попало в руки рабочей интеллигенции, чтобы рабочее государство дало рабочей интеллигенции все необходимое для этого[73].
В этом документе сформулированы все основные компоненты культурной политики коммунистической партии, которые будут маркировать ее на протяжении будущих десятилетий. Среди них – классовая риторика и обещание «подлинной» свободы творчества, обеспечение материальных и организационных условий развития культуры в обмен на огосударствление, надзор как гарантия идейной «дезинфекции», кадровые чистки для соблюдения чистоты от «социально чуждых элементов».
Ключевой, канонический характер этого документа осознавался государственными блюстителями интересов культуры и самими творческими работниками и десятилетиями позже. Об этом свидетельствует его инструментализация партийными чиновниками и деятелями культуры в эпоху хрущевской оттепели. Забегая вперед, упомяну характерный эпизод. В 1956 году в журнале «Вопросы философии» появилась статья, авторы которой в связи с критикой культа личности поставили под сомнение необходимость партийно-государственного руководства и контроля над искусством. Симптоматично, что отстаивание «свободы творчества» было идентифицировано партийной аналитикой как «возрождение реакционного пролеткультовского лозунга автономизма и широкого самоуправления искусством»[74]. Под лозунгом «партийности» искусства коммунисты продолжали отстаивать свое право на управление им, уверенно записывая всякое сомнение на этот счет в разряд «ревизионистских», «антипартийных» и даже «антигосударственных» явлений. Но об этом – в свой черед.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
«Низы» Пролеткульта и рабочие клубы 1920-х: что делали и чем жили
Людмила Булавка
Альтернативы » №3, 2012. С. 89- 133.
Эта статья является продолжением авторской серии работ по теме Пролеткульта: первая была посвящена тому, как понималась пролетарская культура в общественных дискуссиях 1917–1920-х гг.[1], вторая – отношению Пролеткульта к культурному наследию, в том числе к так называемой «буржуазной культуре»[2].
Но тема Пролеткульта включает в себя много и других аспектов, без понимания которых очень трудно подобраться к целостному представлению о сущности этого феномена. Вот некоторые из них:
-
культурная политика идеологов Пролеткульта и культурные практики рабочих клубов и студий;
-
взаимоотношения «низов» и «верхов» Пролеткульта с художественной интеллигенцией;
-
взаимоотношения Пролеткульта и Наркомпроса;
-
художественные и культурные практики Пролеткульта;
-
противоречия Пролеткульта;
-
назначение Пролеткульта: дискуссия между Лениным и Богдановым и т. д.
Исследование темы Пролеткульта вызывает много вопросов, в частности такие:
-
Чем Пролеткульт с его практиками почти вековой давности актуален сегодня, когда не то что революционная, но уже просто культура как таковая вытесняется такими понятиями, как «культурные услуги» или «акультурность»?
-
В чем состояло принципиальное расхождение позиций «верхов» и «низов» Пролеткульта, если таковое имело место?
-
В чем состоял конфликт между идеологами Пролеткульта и Лениным, если при этом учесть то обстоятельство, что политика руководства Наркомпроса изначально была ориентирована на всяческую поддержку Пролеткульта (например, на его содержание выделялось средств больше, чем на всю высшую школу)?
-
В какой мере практики Пролеткульта являлись формой преодоления отчуждения между культурой и революционными массами?
-
Какие противоречия Пролеткульта являлись скрепами всех составляющих этого феномена?
Третья статья посвящена тому, чем и как занимались «низовые» структуры Пролеткульта, в чем состояла суть этих практик, их формы и проблемы. Этот вопрос уже сам по себе чрезвычайно объемен, ибо связан с необходимостью осмысления огромного количества исторических фактов и документов, каждый из которых вскрывает какие-то важные смысловые оттенки этого феномена, тончайшие узлы общественных взаимосвязей и противоречий. Не имея возможности охватить их во всей полноте, особенно в рамках отдельно взятой статьи, автор, тем не менее, попытается на основе анализа культурных практик некоторых рабочих клубов и студий, составлявших базовую сеть Пролеткульта, выявить те закономерности, которые можно рассматривать как имманентные черты этого феномена. Это первая сверхзадача данной статьи. Вторая – попытаться передать дух деятельности активистов Пролеткульта, атмосферу той общественной ситуации, в которой они работали, стиль общения, язык того времени, образ мыслей, приоритеты интересов. Вот почему в статье приводится так много оригинального текста.
* * *
Ситуация первых послереволюционных лет, в которой начинал свою работу Пролеткульт, была очень трудной. Кто-кто, а активисты Пролеткульта это понимали в полной мере, ибо в большинстве своем это были те, кто так или иначе, но лично участвовал в революционных событиях.
Атмосфера первых революционных лет, несмотря на всю сложность ситуации, была периодом общественного подъема, бурного культурного творчества, экспериментов и массового энтузиазма, основанного на глубоко сознательном отношении к построению новых форм жизни[3]. Вот что об этом писал в 1921 г. журнал «Грядущее»: «Странное дело. Все те факты, на которые указывают враги Октябрьской революции, правильны. Действительно, ученые вымирают, несмотря на академические пайки; действительно, в школах нет тетрадей и учеников, и вдобавок холодно, так что занятия идут из рук вон плохо; действительно, бумаги у нас в 12 раз меньше, чем до войны, и нет свободы печати для врагов Октября, и книга стала недоступной для всякого желающего. Все это верно. Однако вывод наших врагов из всех этих фактов, будто у нас установилась диктатура невежества, неверен. Факты говорят против этого вывода.
В царской России среди крестьян было около 80% неграмотных, теперь этот процент, благодаря работе школ по ликвидации неграмотности, уменьшился втрое или вчетверо, а через 3–4 года и совсем уничтожится. В нашей 3-миллионной красной армии, состоящей в большинстве из крестьян, уже теперь нет ни одного неграмотного.
В царской России слой интеллигентных людей, имевших потребность в том, чтобы почитать газету или книгу, едва ли составлял 10% всего населения, теперь этот процент увеличился по крайней мере в 5–6 раз»[4].
В этот период создается система рабочих клубов практически во всех крупных городах и населенных центрах, причем не только на территории России (Иваново-Вознесенск, Рыбинск, Тула, Ижевск, Самара, Пенза, Кострома, Одесса и мн. др.). Так, например, в 1921 г. при Тифлисском клубе железнодорожников был создан Клуб железнодорожной молодежи им. Бориса Джеладзе и Саши Окоева, куда входили как грузинские, так и русские активисты. Средняя посещаемость клуба была около 300 человек в день[5].
Если говорить о художественных студиях, то к 1920 г. в стране активно работало уже 128 литературных пролеткультовских студий; в литературной студии Витебского Пролеткульта (далеко не самой крупной из них), например, занималось 300 человек[6].
Проблема перспективы развития культурного фронта была поставлена в Пролеткульте сразу. «Необходимо создать единый фронт от Каспия до Белого моря для распространения пролетарской культуры»[7], – писал журнал «Гудки» в 1919 г.
Студийцы литературной студии Московского Пролеткульта обеспечивались жильем, столом и стипендией в размере 450 руб. в месяц. В студию принимались лица, делегированные местными пролеткультами, губернскими и городскими профсоюзами и рабочими литературными кружками[8].
Пролеткульт получал существенную помощь от Советского государства (через Наркомпрос): в частности, предоставлялись лучшие помещения под студии, театры и клубы; низовые структуры обеспечивались кадрами преподавателей и др. Наряду с этим, поддержку Пролеткульту оказывали местные органы Советской власти, профсоюзы, рабочие предприятия и др. Например, в 1918 г. Самарский Пролеткульт получил от местных органов народного образования – 15 тыс. руб., от губревкома – 8 тыс. руб; Пермский Пролеткульт – 700 тыс. руб. В мае 1922 г. Моссовет принимает решение о выделении Пролеткульту единовременной субсидии в 10 млрд. руб[9].
В первой половине 20-х гг. масштабы деятельности Пролеткульта снижаются. В 1920–24 гг. число местных пролеткультов сократилось с 300 до 77, а в 1927 г. их осталось всего 6 (Московский, Ленинградский, Иваново-Вознесенский, Саратовский, Рыбинский и Тверской)[10]. Это, с одной стороны, было составной частью того кризиса, который в условиях перехода к нэпу, с введением хозрасчета и свертыванием государственного субсидирования, пережила культурно-образовательная система страны в целом; с другой стороны, Пролеткульт в эти годы все более утрачивает самостоятельность, подчиняясь партийному и профсоюзному контролю. С 1925 года он окончательно переводится в подчинение ВЦСПС, в каковом статусе существует до своего роспуска в 1932 году[11]. Тем не менее, система рабочих клубов, включая культурно-просветительскую и художественно-творческую работу в ее рамках, в 20-е годы продолжает существовать и развиваться – при ключевой роли, в первую очередь, профсоюзных организаций. Излагаемый ниже материал охватывает как пролеткультовскую активность периода гражданской войны, так и деятельность рабочих клубов времен нэпа.
Для чего нужны рабочие клубы?
Система художественных студий и, прежде всего, рабочих клубов, по сути, являлась организационной и демократической базой Пролеткульта, интегрированной затем в систему культурной работы 1920-х гг. Их деятельность строилась главным образом на основе энтузиазма тех, кого принято называть «революционными массами». Прежде чем будет раскрыто содержание этой деятельности, посмотрим, как понимали назначение рабочих клубов сами активисты. Это понимание складывалось в четкую целевую программу, основные положения которой они формулировали следующим образом.
-
Рабочий клуб – это школа управления государством.
-
«Рабочий клуб – одна из форм активного творческого общественно-коммунистического участия рабочих масс в строительстве своего государства, в борьбе за него»[12].
-
«Рабочий клуб не только и не столько школа коммунистического просвещения и воспитания масс, он – ячейка, форма массовой творческой общественно-коммунистической самодеятельности, и не только в области искусства, но и в области политической, профессиональной и производственной»[13].
-
Рабочий клуб был еще и механизмом выявления общественных настроений и отношений рабочих к происходящим событиям текущей жизни[14].
-
Рабочий клуб – это орудие организованной борьбы с бюрократизмом, его «предупредитель»[15].
Уже на основе только этих положений можно понять, как были расставлены приоритеты в определении целей деятельности самими активистами рабочих клубов Пролеткульта. И такой главной целью, сверхзадачей было прежде всего даже не освоение культуры, тем более – «культуры ради культуры». Главную цель рабочих клубов составляли три приоритета:
-
первый – строительство своего, т. е. рабочего государства, понимаемого прежде всего не как институт власти, а именно как политический инструмент в деле реализации интересов человека труда (это позже, уже в сталинский период, «государство» понималось прежде всего как институт власти);
-
второй – формирование низового (революционного) субъекта этого государства:
-
третий – обеспечение демократической смычки между революционными массами и представителями высших органов революционной власти. «Рабочий клуб – это форма смычки руководящих слоев класса и «низов», смычки, где встречаются товарищи, где отсутствует неизбежная в текущей работе официальность отношений»[16], – писал журнал «Рабочий клуб» в 1924 г.
Исходя из этого порядка целевых приоритетов, определялись и главные сверхзадачи деятельности рабочих клубов. Так, например, первый приоритет диктовал в качестве главной задачи – подчинение всех форм клубной деятельности практическому решению существующих социальных проблем; второй – формирование идейного самосознания и высокого культурного уровня революционного индивида;третий – борьбу и изживание бюрократизма.
При этом каждая из этих трех сверхзадач была тесно связана с проблемой культуры. Так, например,первая задача была связана с формированием у индивида оптики неотчужденного (гуманистического) видения окружающей действительности во всех ее проявлениях и, самое главное, – понимания того, какое решение той или иной конкретной проблемы дает возможность развития одновременно всех и каждого; вторая – с преодолением отчуждения революционного индивида от культуры; третья – с формированием политической культуры демократии как механизма прямого и деятельного участия революционных масс через включение их в систему контроля и учета и тем самым в работу пролетарского государства.
Этот реальный выход на культуру – с позиции всех этих разных задач – в итоге как раз и формировал основные узлы нового остова новой культуры, и не только на уровне представлений, по поводу которых и в рабочих клубах, и студиях, и за их пределами проходили тогда целые дискуссионные баталии. Причем здесь под словом «новая культура» понимается не какая-то новая, особая наука или искусство, а именно новый дух общественных отношений в культуре, основанный на энтузиазме совместного сотрудничества. В сущности, рабочие клубы занимались созданием таких общественных форм, посредством которых было бы возможно соединение революционных масс с культурой на основе преодоления отчуждения между ними.
А вот как формулировали эти задачи сами пролеткультовцы:
-
«…программа журнала («Рубежи» – Л.Б.) – объединить вокруг себя все живые силы округи, развернуть в себе широкую работу культурно-творческих исканий, стремясь к идейному прогрессу через горнило строжайшего критического анализа своей собственной работы и всей идеологической жизни современности: оживить собою революционную, культурную мысль в массах»[17];
-
«Нужно оживить нашу застоявшуюся жизнь свежей струей: надо поддержать в минуту кризиса одинокие, расщепленные, слабые культурные искания и творческие порывы: нужно развязать, пробудить, развернуть все наши духовные ресурсы. И прежде всего, в рабочей среде. Но нужно эту развертывающуюся культурную жизнь подчинить идейному влиянию Пролеткульта, насквозь прошить ее революционными тенденциями, направить в русло пролеткультовских принципов»[18];
-
«….строительство новой, своей собственной культуры. Культуры, проникнутой идеями социализма»[19]. При этом в качестве знамени «новой культуры» активистами рабочих клубов брались такие имена, как Верхарн, Уитмен, Горький, Ван Гог, Менье[20].
Каждый рабочий клуб имел свое название. Вот некоторые из них: «Красный Октябрь», «Красные огни», «Красный деревоотделочник», «Красный луч», «Крылья коммуны», «Авиаприбор», клуб имени «Ивана Федорова» и т. д.
Идейные принципы деятельности рабочих клубов
Деятельность рабочих клубов, несмотря на их самодеятельный характер, исходила из целого ряда принципов, одни из которых активистами использовались сознательно, другие – стихийно, но их организационный и содержательный эффект прослеживается во всех формах их практики. Вот ее основные принципы:
-
Ориентация всех форм деятельности даже не столько на политическую пропаганду, сколько именно на общественную практику, понимаемую прежде всего как преобразование и обустройство новой жизни.
-
Активисты рабочих клубов всегда проводили ту позицию, что реальность пронизана классовой борьбой, и не только в форме гражданской войны, но и в виде продолжающихся в обществе даже после ее окончания жестких идеологических противостояний. Сегодня это чаще всего вызывает иронию и воспринимается как некая идеологическая обязанность, навязанная Советской властью. Но в стране, где шла гражданская война, развязанная сторонниками монархической власти, втянувшей ее в ужасы первой мировой войны, и сделавшей все возможное для того, чтобы вооруженные силы Антанты (военного блока ведущих «цивилизованных» стран) подавляли и уничтожали свой же народ, – в такой ситуации оптика классовой борьбы была не идеологическим знаком, а результатом самой реальности. И эта классовая позиция в ее активном пульсировании была характерна не только для большевиков, но и их противников. Вот что писала в своих дневниках в январе 1918 г. З. Гиппиус, которая, казалось бы, была далека от стихии классовой борьбы: «Спросить себя (и ответить), почему я помогаю эсерам? …А потому, что сейчас у нас (всех) только одна задача, узкая, самая узкая цель! Свалить власть большевиков. Другой и не должно быть… Все равно чем, все равно как, все равно чьими руками»[21]. И далее: «Не могу вообразить сейчас таких обстоятельств, при которых наши «умеренные», наши либералы, не оказались бы «никудышниками». В крови у них нет микроба борьбы, а без этого политика невозможна. Одно из несчастий России – это ее стоячие, безрукие интеллигенты-государственники»[22].
-
Следующий принцип деятельности клубов – это солидарность, которая рассматривалась активистами Пролеткульта как обязательный принцип нового революционного сообщества, особенно применительно уже к практической деятельности.
-
Особо следует отметить такой принцип деятельности активистов Пролеткульта, как интернационализм. Он происходил из самой основы освободительной тенденции советской культуры – общего дела по преобразованию действительности. Этим определялись и сами интернациональные формы деятельности активистов Пролеткульта. Так, например, когда советские физкультурники выехали на соревнование в Париж и Берлин, то более 15 тыс. рабочих зрителей восторженно приветствовали их появление пением «Интернационала». Советские спортсмены заняли 9 первых мест и 2 вторых места в состязании по атлетике. На третий день было организовано бесплатное соревнование, привлекшее несколько тысяч народа в Париже[23]. Как писал журнал «Рабочий клуб», советские спортсмены «были на приеме у тов. Раковского и посетили Французскую секцию красного спорт-интернационала, устроив товарищеский прием в кооперативной столовой, организованной коммунистической партией Франции»[24].
Принцип интернационализма лежал в основе не только деятельности Пролеткульта и активистов рабочих клубов в целом, но и организации различных конкретных форм этой деятельности, в том числе сотрудничества с зарубежными организациями. Так, например, в Берлине на примере советского опыта был создан Пролетарский театр, а в 1922 г. в Чехословакии была организована «Синяя блуза», которая была очень популярна в революционной России[25].
А вот как написал журнал «Рабочий клуб» о поездке советских спортсменов в Берлин: «Несмотря на неудачную погоду, ветер с ураганом и дождем, состязание состоялось при 20 тыс. зрителей. Русские заняли все первые места по велосипедному состязанию и 6 вторых, а по легкой атлетике – 2 первых места. … Любопытно отметить, что русские спортсмены, проезжая рабочие кварталы, были страшно удивлены сжатыми кулаками, которые им все показывали. Впоследствии недоразумение выяснилось, когда оказалось, что …. это знак красных фронтовиков»[26].
-
Рабочий клуб – это форма коллективной критики. Это было принципиальным положением. И действительно, деятельность рабочих клубов, как правило, была открыта для критики и самокритики. И прежде всего эта критика была направлена на отрыв деятельности рабочих клубов от реальной жизни, ее насущных социальных проблем. Вот несколько примеров, взятых со страниц журналов первого послереволюционного десятилетия:
«В этой работе пролетариату мало что пришлось использовать из наследства дореволюционной эпохи. В этом смысле строительство рабочего клуба дело новое, и вполне простительны многие упущения в этой области. Но упущение одно, а неверное понимание идеи, места и роли рабочего клуба в нашей пролетарской революции, в строительстве пролетарского государства совершенно другое. Чем занимается рабочий клуб в данное время? Зачастую только книжным изучением «коммунизма вообще», почти вне связи с практикой к ближайшему завтра»[27].
«Клубные руководители мыслят рабочие клубы как школу, … как старую школу учебы и муштры. Эта установка неверна… книжное усвоение коммунизма и недостаточно, и вредно, оно может создать «начетчиков от коммунизма»; надо, чтобы коммунизм был воспринят как …конкретная задача социальной практики»[28].
«Пролетарское культурное строительство – это большая, новая и сложная работа. Она не по силам отдельным организациям. Если она будет вестись доморощенным способом, каждым союзом, каждым заводским комитетом, каждым клубом, независимо друг от друга, то получится лишь прежнее топтанье на одном месте, прежнее беспомощное заявленье в болоте мещанской культуры.
Сдвиг на путь культурной самостоятельности возможен лишь объединенными общими усилиями…»[29].
«… ни в коем случае нельзя затушевывать грехов комсомольцев и отдельных неудач»[30].
-
Открытость обсуждений и дискуссионность также являлись обязательными принципами деятельности рабочих клубов. Вот что писал об этом журнал «Рабочий клуб»: «Дискуссия должна стать опытным полем тренировки мысли»[31].
Организационные принципы рабочих клубов
-
Рабочий клуб – это общественный и организационный центр рабочего предприятия. Клубы были тесно связаны с предприятием и всегда были проводниками его интересов как внутри предприятий, так и за его пределами. Соответственно, они всегда стремились быть в курсе всех его производственных дел, и у них всегда был доступ к заводской информации. При этом каждый рабочий имел доступ к контролю и учету за деятельностью уже и самого клуба.
-
Рабочий клуб согласовывал свою деятельность (планы и формы) прежде всего с районным завкомом, местным советом и уж затем с местной партийной ячейкой.
-
Это обстоятельство диктовалось той необходимостью, что, во-первых, деятельность клубов была ориентирована на интересы рабочих, которые были представлены всеми этими органами; во-вторых, для того, чтобы помогать рабочему клубу, всем этим органам необходимо было знать подробно об их планах и перспективах.
-
Работа за деньги или бесплатная на основе самодеятельности? Это был достаточно серьезный вопрос, вызванный реальной дилеммой: делать клубную работу на основе энтузиазма не умеющих и не опытных активистов, или же нанимать за деньги людей с профессиональным опытом и навыками, но при этом, что вполне вероятно, идейно не близких? И эта проблема, как писал журнал «Рабочий клуб», была принципиальной: «В самом деле – снять хорошего завклуба и заменить его платным, но ничего в клубном деле не смыслящим председателем правления, привлекать из принципа усталых после тяжелой физической работы рабочих к уборке клуба, организовывать художественные кружки без руководителя, дающие массам идеологическую и художественную халтуру, организовывать комиссии из одних членов правления без привлечения массовика … – все это есть «самодеятельность», все это делается во имя самодеятельности»[32].
Но была и другая позиция: «…мы считаем неверной в применении к современному рабочему клубу «классическую формулу»: «сперва выучись, а потом – управляй»… Конечно, хотя бы без элементарной общей и политической грамотности не может быть никакого серьезного творчества, но первая дается школой (не клубом), предпосылая ко второму, и основание дает жизнь – классовая борьба»[33].
Как правило, работа руководителей клубов оплачивалась, и при этом зарплата была, конечно, маленькой, но в целом те задачи, которые ложились на них, без инициативы и энтузиазма решать было невозможно.
-
Демократизм деятельности рабочих клубов. Основными органами демократии рабочих клубов были: комиссии, общие собрания работников предприятия, судов (над завкомами, над плохими хозяйственниками, над обывателем), производственные совещания, делегатские собрания[34].
-
Принцип инициативности. Проблема пробуждения низовой инициативы рабочих масс для активистов рабочих клубов была одной из насущных, ибо от ее решения зависело, в какой мере он станет притягательным как центр заводской общественности. Эту же проблему поднимал журнал «Рабочий клуб»: ««Опыт годовой работы» с совершенной полностью отвечает на вопрос, как вызвать заинтересованность в работе, чтобы все строилось на началах широкого добровольчества и методам принуждения не было места в клубе»[35].
-
Рабочие активисты не боялись менять формы своей клубной работы: одни угасали, не получая поддержки рабочих, другие возникали как реакция на новые запросы интенсивно развивающейся исторической действительности.
-
Наряду с этим (в том числе в рамках Пролеткульта) создавались также и национальные рабочие клубы. Так, например, 10 ноября 1918 г. было открытие Петроградского Латышского рабочего театра, репертуар которого составляли пьесы Уолта Уитмена, Эптона Синклера, «Смерть Дантона» Бюхнера. Со вступительным словом на открытии выступал Карл Озоль-Преднек[36]. В этот же время вышел первый литературный альманах латышской пролетарской поэзии[37].
Позже был создан межсоюзный московский еврейский рабочий клуб «Коммунист», в котором в конце 1926 года «была впервые показана одноактная пьеска тов. Иоффе «От Хишлавича до Херсона», посвященная ОЗЕТ’у (общество земледельцев еврейских трудящихся)»[38].
Во Владивостоке, кроме русских клубов, были организованы китайские, корейские клубы (их было два) и клубы иностранных моряков[39]. Китайский рабочий клуб «1-го мая» объединял несколько тысяч человек (секции коммунистической партии, свой комсомол и даже отряд юных пионеров-китайцев)[40].. «Это отвлекает китайцев от азартных игр и страшного зла – опиокурения»[41], – писал журнал «Рабочий клуб».
И далее сообщал этот журнал: «Невероятный фурор китайцев вызвала организованная недавно радиопередача китайских концертов и докладов на китайском языке»[42].
В клубе иностранных моряков была библиотека на европейских и восточных языках, а также «живой журнал» (см. ниже) на английском языке[43]. Интересно, что администрация судов, как писал В. Март, иногда пыталась воспрепятствовать своим командам посещать клуб моряков, но это, однако, ни к чему не приводило. Более того, иностранные моряки даже участвовали в совместных демонстрациях 1 мая и 7 ноября. И, как писал журнал «Рабочий клуб»: «Это участие иностранцев в советских революционных празднествах вызвало особый восторг в населении, которые еще хорошо помнят иностранных интервентов на своих улицах»[44].
Рабочие клубы и партия
По вопросу партийности в рабочих клубах шли большие дискуссии. И главный вопрос состоял в том, должны ли рабочие клубы держать тесную связь с большевистской партией? И если да, то каким должен быть характер этой взаимосвязи: подчинение или товарищеское сотрудничество? При этом – речь идет о взаимодействии рабочих клубов с заводской партийной организацией или с отдельными коммунистами?
На этот счет были разные позиции. Некоторые выступали против тесного сотрудничества. Но преобладал другой взгляд на этот вопрос: «… некоторые товарищи договаривались до того, что самодеятельности членов клуба угрожает организация… партколлективов…»[45]. И далее: «… можно ли руководить клубной работой без партколлективов, только через отдельных коммунистов, входящих в правление? Конечно, нет. Вопросы клубной работы настолько сложны и новы, методика ее настолько неустойчива, что каждый рядовой член правления – коммунист не ориентируется в том, насколько то или иное разрешение вопроса клубной работы поведет действительно к нужным результатам. До последнего времени мы имеем в правлениях клубов большинство коммунистов (при неорганизованном партколлективе), и тем не менее, клубы эти часто ведут в основе неправильную работу. Для коммунистов, членов правления клуба, может быть, больше, чем для руководителей другой общественной организации с устойчивыми методами работы, есть необходимость в организационном обсуждении итогов и перспектив работы данного клуба»[46].
Эти вопросы возникали в связи с тем, что у активистов клубов накапливались проблемы, с которыми они собственными силами не всегда справлялись. Вот, в частности, такая проблема: для вовлечения в клуб значительного числа рабочих, по мнению клубных работников, необходимо иметь организованное ядро взрослых рабочих, вокруг которых могла бы собраться беспартийная масса. Другими словами, нужны были те, кто умел привлечь людей, заинтересовать их новым делом, вызвать в них энтузиазм коллективного творчества. То есть те, кто четко понимал стратегию общественного развития и при этом умел работать с людьми в сложных ситуациях, связанных с налаживанием нового общего дела. Понятно, что такие люди, как правило, составляли партийный заводской актив, ибо большей частью это были те, кто прошел и революцию, и гражданскую войну и потому умел работать с людьми и в самых сложных условиях. И действительно, это были, прежде всего, люди дела и энтузиазма. Вот почему молодые клубные работники в первую очередь обращались к ним.
В связи с этим возникал вопрос: «Но тогда, может быть, для руководства клубом следует организовать только партфракцию правления (есть и такой уклон)? Опыт показывает, что этого недостаточно… Правление …нуждается в тщательном руководстве со стороны партийной организации. Ни общее собрание, ни бюро ячейки партии не может так детально и часто, как это необходимо, ставить на обсуждение вопросы клубной жизни, а для клубов, объединяющих несколько предприятий, это почти невозможно. Естественно, поэтому, что руководство клубной работой должно принадлежать партколлективу»[47].
Надо сказать, что инициатива сотрудничества с большевиками шла, прежде всего, от самих клубных активистов, которые сами говорили о необходимости фракционного обсуждения итогов и перспектив работы своих клубов. Позднее из самих клубных партийных активистов начали формироваться в клубах и свои партийные коллективы. Но в данном случае речь вовсе не шла о подмене клубного актива партийным ядром. Вот что по этому поводу писал журнал «Рабочий клуб» в 1924 году: «Совершенно ясно (и положение о партколлективах об этом определенно говорит), что партколлективы не возьмут на себя всей работы клуба, не заменят собой клубных организаций и не будут предрешать … мелкие текущие вопросы клубной работы»[48]. При этом надо поднимать, что в данном случае речь шла не о подмене клубного актива партийным, а лишь об усилении первых силами последних. Это понимали и сами клубные активисты: «Совершенно ясно (и положение о партколлективах об этом определенно говорит), что партколлективы не возьмут на себя всей работы клуба, не заменят собой клубных организаций и не будут предрешать мелкие текущие вопросы клубной работы….»[49].
Вот как можно в самом общем виде сформулировать основные принципы взаимодействия заводских партийных организаций и рабочих клубов в период первой половины 1920-х гг.
-
контроль и руководство содержанием клубной работы;
-
внесение в содержание клубной работы партийных и советских задач;
-
включение в ряд комиссий членов партколлектива;
-
вовлечение в клубную работу коммунистов.
С чем и за что боролись рабочие клубы
-
Борьба с мещанством
Деятельность Пролеткульта и активистов рабочих клубов имела две составляющие: созидательную и ту, что была связана с борьбой. Но с кем и с чем они боролись?
Откуда возникали эти интенции борьбы?
Они возникали не только из необходимости отстаивания своей позиции в обществе, которое в период гражданской войны являло собой сложное противостояние разных, в том числе, антагонистических интересов.
Необходимость борьбы рождалась из стремления революционных масс удержать ту историческую линию развития, на основе которой только и можно было решать насущные проблемы жизни для всех и каждого (налаживание железных дорог и школ, заводов и фабрик; решение проблем с беспризорными детьми и сохранением памятников культуры и т. д.); обретать те смыслы жизни и труда, которые связаны с развитием, а не подавлением человека; выстраивать сообщество людей на основе совместной творческой деятельности, а не уничтожающей друг друга конкуренции.
И все, что сознательно мешало этому, активистами Пролеткульта рассматривалось как классово враждебное, то, чему необходимо противостоять. По-другому и быть не могло. А сегодня разве нет этой классовой борьбы, только уже новых собственников с человеком труда? И если при захвате предприятия незаконному собственнику понадобится избить рабочих или даже стрелять в них, то он это сделает, не задумываясь, как это было на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате в 1999 году. О таких проявлениях классовой борьбы адепты прав человека (как российские, так и западные) предпочитают молчать.
Но эта классовая борьба активистов Пролеткульта была не абстрактной и тем более не самодостаточной. Она имела свои конкретные задачи.
Во-первых, одной из таких задач была борьба с «обывательщиной» (мещанством), о затаенной опасности которой они постоянно предупреждали рабочих. Борьба с мещанством, по сути, была формой продолжения гражданской войны, но уже в сфере общественных отношений и культуры. Образ этого мещанского бытия был дан в одном из номеров журнала «Рубежи»: «Белев – захолустье: он спит особенно глубоко, он грамотен еще меньше, он совсем неподвижен: живет он вчерашним днем и задним умом»[50].
В борьбе с таким мещанством лишь одной смелостью да шашкой не возьмешь, здесь требуется его культурно-историческое изживание через включение обывателя в те или иные практики общественного творчества. И надо сказать, что социальные преобразования 1920-х в этом отношении заставляли обывателя «вставать на цыпочки».
Трагический поединок между Новым человеком и мещанином пронизывает всю историю СССР. Незавершенность этого поединка в итоге стала одним из тех факторов, который прямо «сработал» на распад СССР.
Сегодня, в эпоху торжества мещанских норм жизни, такое жесткое неприятие обывательщины расценивается скорее как атрибут советского тоталитаризма, заслуживающий в лучшем случае ироничную насмешку. Кстати, апологеты «тоталитарной» парадигмы толкования практик СССР, причем как российские, так и зарубежные, как правило, никогда не поднимают проблему мещанства как такового и тем более – не критикуют его. Впрочем, это и понятно: исходя из идеи частного индивида, подпираемой представлениями о неприкосновенности собственности, свободе обособления и отчуждения от других, а также правовым фетишизмом, они, в сущности, защищают мещанство, но в «цивилизованных» формах.
Ситуация, в которой работали активисты Пролеткульта, была непростой: с одной стороны, поддержка со стороны Советской власти, с другой – напряженное идеологическое противостояние со стороны тех, кто не принял революции, причем даже не столько политически, сколько внутренне, и здесь в первую очередь имеется в виду мещанин, который особенно поднялся в период нэпа. Сложность этой ситуации отмечали и некоторые журналы. Вот что об этом говорилось в редакционной статье журнал «Рубежи»: «…с одной стороны, культурная спячка, массовая безграмотность, мертвый индифферентизм; с другой стороны, – литературный рынок наводняется потоком новых (верней, конечно, самых старых) изданий и изданьиц, выросших, как фениксы из пепла, из нэповского навоза: и центр, и провинция покрываются плевками мерзких театров и театриков, в том числе и многих из так наз. «рабочих театров»; лекционные залы переживают резкий подъем богоискательства, философского и литературного, и т. д., и т. п. И вся эта муть, поднявшаяся со дна взбаламученного нэпом обывательского моря, без труда находит себе аудиторию: всеобщая деклассация как следствие разрухи; нервная издерганность и умственная отупелость; чем более затаенная, тем более острая ненависть к Революции одних, непонимание происходящего и отсюда моральная растерянность других, неверие в свои силы и безграничная разочарованность третьих – вот психологическая база идеологии нэпа»[51].
Многие активисты Пролеткульта и рабочих клубов поднимали, и достаточно жестко, проблему борьбы с мещанством, раскрывая его социальную природу и причины возникновения. Вот из каких «щелей», по мнению одного из идеологов Пролеткульта, проникает мещанство в революционную среду:
«искание наибольшего довольства,
стремление к обеспеченности и карьеризм,
искажение коллективизма,
заражение старыми формами общежития,
индивидуализация психики,
осознание неравенства не как несправедливости, а как необходимого условия самообеспечения»[52].
А вот что, по мнению активистов Пролеткульта, питало «обывательщину»: усталость, желание твердо установленной нормы, «тенденция к статированию форм работы», «общая осадка температуры и темпа революции»[53].
Отличительными чертами «обывательщины» считались следующие:
«а) Собственничество.
б) Семейный деспотизм.
в) Антиобщественность.
Индивидуализм.
г) Подражательность.
д) Религиозность (ханжество)»[54].
«Общий стиль: не революция, а эволюция в привычном темпе»[55].
Для ученого-мещанина такими характерными чертами являлись:
«Мистический страх перед силами природы.
Индивидуальная трусость ученых.
Узость горизонта.
Витализм.
Фетишизм привычных формул»[56].
А вот как В. Плетнев подал основные позиции мещанина:
-
«Мой дом – моя крепость»
-
«Дети, церковь, король, кухня (формула Вильгельма II) – вот что должна знать жена»
-
«День прошел и слава богу»
-
«Тишь да гладь, да божья благодать»
-
«Покой, застойное, не волнующее состояние»
-
«Всяк сверчок – знай свой шесток»
-
«С суконным рылом в калашный ряд»
-
«Так и надо – не ходи куда не надо»
-
«Не нами мир начался, не нами и кончится»[57].
К атрибутам мещанства относилось следующее:
«Фуксия. Герань.
Кенарка (канарейка – Л.Б.).
Граммофон.
Часы с музыкой.
Лампадка по субботам.
Пироги и варенье.
Чувствительный романс (со слезой).
«Интересное» чтение.
Лавочка за воротами.
Промывка косточек.
Общественное мнение улицы. Сплетня»[58].
Конечно, это перечисление может вызвать улыбку, но в целом сама постановка этой проблемы в те далекие 20-е годы как одной из центральных говорит о точном понимании коммунизма как идеи, противостоящей идее частного человека, частной собственности, частного (не путать с понятием «личное») взгляда на действительность. А ведь именно частный взгляд на вещи и частное измерение человека и составляет суть того, что называется «пошлостью».
Эта борьба с мещанством, при всех ее перегибах, на которые не стоит «закрывать глаза», тем не менее, сегодня является идейно-этическим вызовом современному российскому обществу и индивиду, принципу его существования, его взглядам, его вкусам.
Опасность мещанства, по мнению пролетарских активистов тех революционных лет, заключалась в том, что оно несло в себе потенциал «контрреволюционной разлагающей силы»: обывательщина – это «туберкулез борющегося класса»[59].
Более того, история показала, что мещанство способно разложить не только личность, но и общество (и это одна из предпосылок фашизма), ставя под угрозу перспективу развития уже и самого человечества, свидетелями чего мы сейчас являемся.
Вот почему в революционный период борьба с мещанством формулировалась как одна из важнейших актуальных задач Пролеткульта: «…новая линия Пролеткульта есть подведение культурного фундамента под массовое строительство пролетарской культуры, она есть идеологическая борьба пролетариата, занявшего в обществе господствующее положение, с частно-собственнической, мещански-интеллигентской культурой, борьба за психологию и с психологией широких трудящихся масс и, прежде всего, рабочих, она есть смычка с их идеологией»[60]. Ибо: «Белев – захолустье; он спит особенно глубоко, он грамотен еще меньше, он совсем неподвижен: живет он вчерашним днем и задним умом. И если не весьма еще распоясалась у нас мещанская, анти-общественная идеология, то в скрытой форме она еще хуже и опасней»[61].
-
Против идеологических ритуалов
Сегодня идеология (имеется в виду коммунистическая) воспринимается только как отчужденная и принудительная форма сознания. И это не без оснований, ибо, выродившись в бюрократические формы, идеология коммунизма уже в 1980-е гг. воспринималась чаще всего неким негативным атавизмом, некоторой «обязаловкой». Да, эти превращения надо видеть, и видеть во всей полноте их проявления, но обязательно в неразрывной связи их с не-превратными формами коммунистичности (взглядов, позиции, поступков). Односторонность видения лишь одной из этих сторон есть следствие недиалектического отношения к противоречивой реальности, предельной формой выражения которой являлась советская действительность. Эта действительность имела ярко выраженную двойственную природу, обусловленную мощным противостоянием между освободительной тенденцией (разотчуждением), связанной с созданием новых форм социальных отношений и, соответственно, со становлением индивида как субъекта истории и культуры, – и тенденцией его подавления. Поэтому коммунизм и как общественный идеал, и как идея, и как личная позиция всегда имел и разные, нередко антагонистические формы выражения: подлинную (сущностную) и превратную (искаженную).
Поэтому толковать советскую систему исключительно как систему тоталитарного типа, не различая меру соотношения социального творчества, энтузиазма, с одной стороны, и авторитаризма, бюрократизма – с другой, на каждом из этапов ее развития, означает не понимать сущности общественной истории СССР. Неразличение их как раз и есть верный признак отсутствия диалектического подхода. Это недиалектическое видение порождается, прежде всего, оторванностью человека от общественной практики.
Первый послереволюционный период, несмотря на военную ситуацию, тем не менее, характеризовался включением масс в процессы общественного обустройства. Вот почему коммунистическая идеология в этот период была прежде всего не абстрактной идеей, не ритуалом, а принципом такого бытия индивида, которое было связано с решением самых насущных проблем. Да и сама коммунистичность в этот период была не «верой в светлое будущее», а убеждением, формирующимся на основе личного участия в созидании новой общественной реальности.
Это проявлялось, в частности, в отсутствии культового отношения к вождям революции. Так, например, в журнале «Рабочий клуб» в 1924 г. была опубликована статья с критикой ритуального и культового отношения к Ленину. Особое значение этому факту придает то обстоятельство, что статья была опубликована в тот год, когда В .И. Ленина не стало.
Вот один из ее фрагментов: «На двери входа в уголок изображен склеп Ильича с надписью «Ленин». Над склепом – его портрет. Дневной свет отсутствует: окна тщательно задрапированы. Стены покрыты красными обивками. Потолок белым. На нем посредине красная с черным звезда, окаймляющая люстру. Вдоль левой стены сверху вниз протянуты две широких черных ленты с надписями …Материала очень много… Торжественная обстановка, сочетание цветов, плакатов, которыми убрана комната, и проч. – все это создает впечатление храма или богато убранного склепа, отрывающего мысли от жизни, от великой борьбы, которую вел Ленин»[62].
-
Ликвидация безграмотности
Во-первых, в самих кружках решалась проблема ликвидации безграмотности, наряду с этим изучалась литература. Кроме того, в рабочих клубах создавались «пятерки», «восьмерки», «тройки», которые на основе соревнования вели работу по ликвидации литературной и политической неграмотности рабочих.
-
Антирелигиозная пропаганда
Почти все рабочие клубы имели то направление деятельности, которое называлось антирелигиозной пропагандой. Как правило, в клубах создавались «уголки безбожника», в которых были следующие рубрики:
-
«Мир по Библии – мир по данным науки»
-
«Что говорит о вере в бога сама церковь»
-
«Как церковь борется с наукой»
-
«Корни религии»
-
«Новости науки и техники»
-
«Революция и церковь»
Наряду с этим проводились открытые дискуссии, на которых обсуждались такие вопросы:
-
«Возможны ли чудеса?»
-
«Эволюция креста»
-
««У нас» и «за границей»»
-
«Классовая принадлежность святых»
-
«Кому нужен рай и ад»
-
«Социализм и христианство»
-
«Бога бойтесь, царей – чтите»
-
«Классовая подкладка христианства первых времен»
-
«Украденные боги»
-
«Богатство церквей и монастырей»
-
«Нравственность по Евангелию и пролетарская нравственность»
-
«После собак и женщин алтарь надо святить»
-
«Что говорит религия о женщине»?[63]
Этим вопросам посвящались спектакли, выпуски «живого журнала» (см. ниже), писались специальные инсценировки. В качестве примера приведем один из фрагментов такой инсценировки – диалог между Аллахом и Господом:
– Аллах: Выпьем, Господи, за погибель человека!
– Господь: Выпьем, Алла… Мы без людей обойдемся. А человек без нас никогда… Уж такова порода человечья, только и ищет, чтобы кто-нибудь да властвовал над ними… раскаются! …Вот мы им покажем, что значит гнев Божий![64]
Формы были самые разнообразные, в частности, была даже выпущена антирелигиозная колода карт (8 черной масти – поповские и 8 красной масти – советские)[65].
Надо сказать, что антирелигиозная пропаганда имела широкую поддержку, в первую очередь – среди молодых людей и тех, кто лично прошел горнило революций и войн (первой мировой и гражданской). Сознанию сегодняшнего, нередко образованного и хорошо владеющего современными технологиями, но при этом забитого российского индивида, все это представляется революционным варварством. Но тогда сама история заставляла человека либо приспосабливаться к ситуации (сегодня к белым, завтра к красным), либо погибать, либо включаться в происходящие события, беря ответственность за других людей, рискуя при этом собственной жизнью. И здесь уже вопрос жизни решался не упованием на кого-либо, а умением организовать себя и других на борьбу в отстаивании своих интересов
Другой дело, что активисты рабочих клубов нередко пытались решить вопрос антирелигиозной пропаганды лишь методом кавалерийской атаки, в то время как здесь требовались долгосрочные методы, ориентированные на историческое изживание этой формы сознания.
-
Втягивание рабочих в изучение своего производства
Для повышения сознательного отношения рабочих к своему труду активисты клубов составляли специальные анкеты, с которыми они шли в трудовой коллектив. Необходимость этого диктовалась несколькими обстоятельствами. Во-первых, в то чрезвычайно трудное время сам труд рабочих, как правило, был физически тяжелым, содержательно малоинтересным и скромно оплачиваемым. И именно поэтому особенно важным было то, насколько рабочий понимал, зачем и во имя чего он выполняет столь тяжелую работу. Не просто принуждение к формальной дисциплине труда, как это характерно для наемных работников, но именно распредмечивание его социального смысла становилось главным содержанием деятельности. Во-вторых, в условиях экономической разрухи, вызванной гражданской войной, жизненно важным становилось сознательное, бережливое отношение к материальным ресурсам, а также творческий подход (смекалка) к разрешению постоянно возникающих проблем разного рода. В тех условиях задача обеспечения необходимых условий для трудовой деятельности зачастую была значительно сложнее и труднее, чем сам труд.
Вот почему одной из важнейших задач рабочего клуба была проблема вовлечения рабочих в изучение производства.
Одним из средств этого вовлечения было «ведение в клубе работ по обследованию производства и созданию музея по производству»[66]. Вот те вопросы, на которые такой «музей», – говоря по-современному, информационный центр, создаваемый самими рабочими, – должен был давать ответы:
«1) сколько стоят старые материалы в местах их производства;
2) сколько они стоят при поступлении на фабрику;
3) во сколько обходится их перевозка;
4) сколько идет на комиссионные расходы;
5) сколько и где именно продает фабрика;
6) какова в продаже оптовая и розничная цены;
7) по какой цене продукты берутся индивидуальным потребителем;

9) оплата труда рабочих: а) число рабочих на фабрике, б) сколько часов они работают в день и сколько дней в году, в) высота их заработной платы, г) сколько идет на содержание администрации, д) сколько тратится на ремонт машин и построек и т. д.;
10) условия труда в данном производстве в былое время и теперь, у нас и за границей?
11) качественный состав рабочих»[67].
-
Борьба за новый быт
«Общественный быт – быт классовой борьбы.
Завод, профсоюз, партия – первые рычаги, где обывательщина встречает отпор.
Товарищество, коллективность, единство цели»[68].
-
Ликвидация картежных игр[69]
-
Борьба против рекламы
Активисты Пролеткульта выступали за формы непосредственной деятельности и живой связи с массами. Вот почему они категорично выступают против рекламы: «…долой рекламу, приклеенную к стене, мы и сейчас боремся против рекламы… Вы хотите сблизить пишущего с читающими, так идите на заводы, в чайные, устраивайте вечера…»[70]
Какие формы работы велись в клубах
Но все новыеформы самодеятельной работы возникали в зависимости от тех целей, которым они были подчинены. И главная из них, как писал журнал «Грядущее», – стремиться «к восстановлению разорванных империализмом товарищеских уз»[71]. Это определяло и соответствующие задачи. Одной из наиболее приоритетных из них было просвещение на основе обращения революционных масс к книге. В связи с этим активисты Пролеткульта занимались организацией таких широко распространенных форм, как книжные выставки, читальни при книжных магазинах, библиотеки, вечера книги.
И, конечно, ее важнейшей составляющей было политическое просвещение, для чего создавались такие формы, как обзоры текущих событий за рубежом, вечера вопросов и ответов, воспоминания о жизни и быте рабочих до революции и после и даже агитсуды.
Сегодня всем хорошо известна такая форма интернет-общения, как «ЖЖ». Так вот, это название – «живой журнал» – возникло еще в послереволюционные годы, когда активисты Пролеткульта создали форму политического просвещения, посредством которой они давали свои комментарии к текущим политическим событиям. Кстати, эти комментарии писали сами активисты, в массе своей беспартийные; и готовились они без партийной цензуры, как это принято считать сегодня. Потом все это слушали и смотрели сами рабочие, и, если что-то было не так, открыто высказывали свою на этот счет позицию – включая самую жесткую критику.
Почти все рабочие клубы создавали формы антирелигиозной пропаганды, например, такие, каккоммунистическая пасха в рабочих клубах или запись в безбожники.
В обязательном порядке во всех рабочих клубах велась работа с развитием художественной самодеятельности. Здесь использовались такие формы, как концерты, вечера самодеятельности, в том числе – красноармейской самодеятельности. Кроме того, большинство клубов вели физкультурные занятия, игры и нередко даже экскурсии.
Деятельность в клубах имела самые разные формы. Некоторые из них воспроизводили старые (дореволюционные), но адаптировали их уже к новым условиям, – например, политлотереи, политаукционы, политбазары или политфанты.
Нередко это вызывало жесткую критику со стороны самих рабочих. Вот что по этому поводу писал журнал «Пролетарская культура» в 1919 г.: «Подавляющее большинство вечеров, устраиваемых рабочими организациями, ничем не отличаются от обыкновенных мещанских вечеринок, устраиваемых обывательскими семейными клубами. В Петрограде не прошло и двух месяцев с начала Революции, как все углы улиц Петроградских пригородов покрылись афишами, извещающими о «свободном бале», «красном бале», «социалистическом бале», «революционном бале» и т. д. с беспрерывными танцами до самого позднего часа утра, с беспримерным боем конфетти, с летучей почтой и всеми остальными избитыми банальностями и атрибутами мещанской тупости»[72].
Но возникали и новые формы. Вот некоторые из них.
-
Выступления боевых музыкально-драматических групп Пролеткульта для обслуживания сражающихся частей Красной Армии на фронтах Гражданской войны
Эта форма деятельности использовалась очень широко, особенно в 1919 году. Так, например, 1-я Центральная драматическая студия была предоставлена в распоряжение ПУРа[73] и затем отправлена на Восточный фронт; Центральная музыкальная студия вместе с хором – на Западный фронт; 6-я Центральная драматическая студия – на Западный и Юго-Западный фронты[74]. Хотя наряду этим существовала и активно действовала на фронтах система Красноармейских театров[75], которые находились в ведении сначала Всероссийского бюро военных комиссаров, а затем уже – ПУРа.
-
Исторические суды
Была широко развита и такая форма, как исторические суды. Сегодня все эти телевизионные суды в основном посвящены разбору собственности и наследства. Тогда же это носило принципиально иной характер – публичный анализ той или иной исторической проблемы с позиции революционного времени. Об этом хорошо написано в книге В. Каверина «Два капитана». Конечно, активисты специально и предварительно готовили некую основу инсценировки, но затем уже в дискуссии это получало развернутое и живое обсуждение. Вот некоторые фрагменты из материалов таких судебных разбирательств над Парижской коммуной:
«Обвинительный акт по делу рабочих-коммунаров Парижа, обвиняемых в недостаточной энергии и классово-выдержанном использовании завоеванной в 1871 г. власти, результатом чего было падение Парижской коммуны, казни рабочих и разгром рабочего движения во Франции»[76]. И далее: «Да, судить мы их можем, но мы не сможем их обвинить….. потому что, будучи марксистами, мы обязаны принять во внимание объективные исторические условия, в которые были поставлены деятели коммуны»[77]. И в завершение этого судебного процесса прозвучал такой вердикт: «В сознании всего величия дела Парижской коммуны, не обвинения выносит суд, а свое преклонение перед великим пролетарским подвигом, трагический исход которого был исторически неотвратим»[78].
-
Работа с «пьющими»
Еще одна форма – работа с «пьющими». Вот как эта задача была сформулирована на страницах журнала «Рабочий клуб»: «Каждый вступающий в область этой работы должен поставить своей целью сближение с одним из пьющих незаметно для него, наполняя его досуг чем-либо интересным (подобно тому, как член РКП ставит своей целью сближение с одним из беспартийных с целью его обработки»)[79].
-
ЖЖ – «живой журнал»
Эта форма была очень популярной у активистов рабочих клубов. Эта форма по определению самих рабочих рассматривалась как
-
трибуна пролетарского творчества;
-
живой агитатор;
-
воспитатель масс;
-
ступень к пролеттеатру;
-
инсценировки в живом журнале;
-
почтовый ящик;
-
хроника.
Кроме того, ЖЖ рассматривался еще и как бич неграмотности. Также он решал просветительские задачи. Так, например, ЖЖ «Кайла» инсценировал весь Кодекс законов о труде[80]. «Живой журнал» становился реальным организационным центром рабочих клубов. Так, например, первый на Дальнем Востоке ЖЖ «Рычаг» возник 21 октября 1922 г. Поначалу в работу включилась группа из 3–7 человек, но затем вокруг него организовывались до 100–200 сотрудников (опыт журнала «Кайла», «Черновские копи»)[81].
-
Познавательный туризм
Рабочие клубы занимались и организацией туризма. Но это был уже новый – целевой туризм, и одной из его форм был «разведочный (познавательный) туризм». Как писал Г. Нагорный, задача теперь в том, чтобы заставить землю отдать свои богатства пролетарскому государству[82]. Другой формой был пролетарский туризм, ставивший целью ознакомление с жизнью страны. «Следствием будет сближение наших народностей и национальностей, усиление взаимного понимания, сплочение народов СССР в еще более тесную и дружную семью»[83], – так писал журнал «Рабочий клуб».
-
Борьба с библиотечными преступниками
Эта проблема стала особенно актуальной в связи с тем, что численность библиотечной сети возросла с января 1925 г. по январь 1926 г. на 1947 библиотек[84].
-
Исследовательская работа
Так, например, кабинет клубной работы Московского пролеткульта 6 месяцев был занят исследовательской работой на заводе «Динамо»[85].
-
Культурно-просветительские рейды
«Культурно-просветительский отдел рабочих Водного транспорта предложил Пролеткульту пароход, который будет крейсировать по Волге и остановится во всех населенных местах»[86].
-
Соревнования по музыкальной работе
«В программе кружков: Григ, Шуберт, Бетховен, Чайковский, Мусоргский и другие композиторы. Когда слушаешь игру многих, очень многих кружков, то забываешь, что перед тобой люди, занятые на производстве и отдающие музыке только свой досуг. … Такие соревнования показывают нам, что не только традиционные и надоевшие «Кирпичики» и «Цыганочка» живут по рабочим клубам»[87], – писал журнал «Рабочий клуб».
-
Ясли для детей.
В одном из рабочих клубов Одессы были организованы ясли для детей на период проведения тех или иных мероприятий. Как было написано в объявлении – «Чай и легкая закуска за счет клуба»[88].
Кроме того, были такие формы, как
-
юридическая работа в клубах[89];
-
учеба по радио[90].
Конечно, не обходилось без «перегибов» и глупостей. Вот лишь один пример, связанный с неприятием такого нового для пролетариата вида искусства, как балет: «Резко раздаются негодующие голоса против так называемого «пролетарского балета», где пара почти голых людей начинает выделывать какие-то канканы, так что многие женщины отворачиваются, а молодежь «подхрапывает»»[91].
Кружки в клубах
Студии и кружки, которые велись в рамках рабочих клубов, создавались самими активистами, хотя и в результате разных инициатив: и как ответ на запрос рабочих того предприятия, к которому был прикреплен данный клуб; и как поддержка инициатив, идущих от других общественных и политических организаций; и как исполнение решений местных органов Пролеткульта, если речь шла о пролеткультовских студиях; и как воплощение собственных инициатив.
Все пролеткультовские клубы и рабочие клубы 20-х годов, как правило, имели кружки, но состав их был разным, и зависел он от того, сумеют ли активисты найти необходимых лекторов, музыкантов, режиссеров, которые готовы были бы сотрудничать с ними. Похожие проблемы возникали и при организации художественных студий. В те первые послереволюционные годы это было достаточно проблематично. Чтобы понять, насколько это было непросто, приведем фрагмент из воспоминаний одного из активистов Пролеткульта И. С. Книжника (Ветрова). Вот что он писал о сложностях налаживания одной из литературной студии Пролеткульта весной 1919 г.: «В то время у большинства лекторов телефонов еще не было, трамваи не действовали, и чтобы переговорить и условиться о чтении курса с каким-либо лектором, надо было идти к нему пешком, иногда несколько раз, если не заставал его дома в первые разы. Многие лектора отказывались. Деньги никого не привлекали, так как на них нельзя было ничего купить вследствие отсутствия частной торговли и почти полного отсутствия товаров в советских кооперативах. К тому же многие не могли ходить пешком большие расстояния и боялись выходить их дому вечером. Мне стоило больших трудов завербовать первых семь лекторов, основы же политической грамоты читал я. В лектора студии пошли лишь те, кого интересовали пролетарские писатели. Но и из этих лекторов некоторые, позанявшись один-два раза, больше не являлись. Иные пропускали занятия, отвлекаемые заседаниями по своей основной службе»[92].
И все же, несмотря на эти сложности, и студии, и кружки создавались и работали. Вот как об этом И. С. Книжник: «Помню только, что Пролеткульте в то время было свыше 300 служащих и свыше тысячи учащихся в различных студиях и в музыкальной школе Пролеткульта, так что здание Пролеткульта было похоже и днем и ночью на шумный улей. Часто партии сотрудников направлялись на фронт в качестве пропагандистов и простых бойцов, ездила на фронт и Театральная Арена Пролеткульта во главе с тов. В. Чекан-Мгебровой»[93].
В 20-е годы система рабочих клубов и кружков при них получила дальнейшее развитие. Вот какие кружки были в Бежецком клубе им. Ленина в 1924 году: «1) марксистский; 2) по истории революционного движения; 3) антирелигиозный; 4) профдвижения; 5) политграмоты; 6) школа политграмоты; 7) школа ленинского набора; 
В киевских клубах (1926–27 гг.) создавались школы шитья и кройки[95]. В Кольчугино работала ячейка художественной самодеятельности («действенная ячейка»), проводились соревнования гармонистов, был организован детский театр, проводились детские утренники и киносеансы[96]. В этот период создавались кружки даже для инвалидов. Например, был создан Московский рабочий клуб глухонемых, в котором действовали драмкружок, стенная газета и «живая газета» (аналог «живого журнала» – с использованием языка жестов, как и в драмкружке). В среднем его посещало около 100 человек в день[97].
В литературных студиях каждую субботу устраивались субботники, которые были посвящены изысканиям новых форм и путей в области пролетарской литературы. В Доме печати студийцы еженедельно проводили литературные вечера с разборами литературных произведений, с диспутами. На них обсуждались не только проблемы литературного творчества, но и роль поэта и писателя в контексте уже новой революционной истории, его отличие от «буржуазного» поэта. «Почему от пролетарских поэтов требуют чуть ли не ежедневно «творить» по стихотворению, да при этом обязательно гениальному, тогда как буржуазная поэзия совершенствовалась веками?»[98].
А вот какой должна была быть программа для шестимесячного обучения в литературных студиях Пролеткульта:
-
Основы естествознания (астрономия, геология, биология, дарвинизм) – 16 часов.
-
Методы научного мышления – 4 часа.
-
Основы политической грамоты – 20 часов.
-
История материального быта – 20 часов.
-
История форм искусства – 30 часов (13).
-
Русский язык (этимология и синтаксис) – 20 часов.
-
История литературы всеобщей и русской – 150 часов.
-
Теория литературы – 36 часов.
-
Психология художественного творчества – 4 часа.
-
История и теория русской критики – 36 часов.
-
Разбор произведений пролетарских писателей – 20 часов.
-
Основы газетного, журнального и книгоиздательского дела – 20 часов.
-
Устройство библиотек – 8 часов.
План преподавания предполагалось окончательно установить в процессе самой работы студии, причем совместно с учащимися и преподавателями. Творческие студии выстраивали свою деятельность в тесном сотрудничестве с предприятиями. Так, например, московские студии Пролеткульта подготовили программу для вечера по случаю чествования героев труда на заводе «Динамо», на котором присутствовало более 4000 рабочих[99].
Театральные инсценировки и пьесы
Во всех клубах без исключения шли театральные инсценировки и пьесы. Они писались и готовились самими активистами. Все инсценировки, как правило, ставились под конкретную задачу: просветительскую, агитационно-политическую, информационную, критическую и т. д. Более того, многие из них завершались предложениями конкретных политических решений, например: «Инсценировка «Признание» … имеет, однако, интересное разрешение: отказ с нашей стороны признать Америку, как запятнавшую себя нефтяными скандалами»[100].
«Живой журнал» «Кайла» инсценировал весь Кодекс законов о труде в 8 действиях; «Рычаг» – землетрясение в Японии, а также «Ноту Керзона» 1923 г.[101]
Вот лишь часть репертуара таких инсценировок, ставившихся в различных клубах и самодеятельных студиях:
-
«Коропотрясение в Японии»
-
«Фронт сурьезный»
-
«Великий коммунар»
-
«Мы смена павшим, в борьбе уставшим»
-
«Октябрьские дни»
-
«Багаж старого года»
-
«Крест и винтовка»
-
«Об одном пустозвоне – лорде Керзоне» (отклик на антисоветскую ноту 1923 г.)
-
«И все-таки она движется»
-
«Иванов Павел»
-
«На дворе во флигеле»
-
«Суд в театре Шатлэ»
-
«Ревизор»
-
«На дне»
-
«Марат»
-
«Голод»
-
«Перекоп»
-
«Белый генерал»
-
«Стенька Разин»
-
«База Совнаркома»
-
«Поезд 2.30» (из эпохи германской революции)
-
«Двенадцать»
-
«Тихая обитель»
-
«Кровавое воскресенье»
-
«Тони Муален»
-
«Кончилось счастье»
-
«Дневник Парижской коммуны»
-
«Красный генерал»
-
«Мы или они»
-
«Свадьба на эшафоте»
-
«Комсомольский балаган»
-
«В зареве пожара» (1924)
-
«Песни солдата»
-
«Фабрикант и рабочий»
-
«Карл Крафт»
-
«Улыбки солидарности»
-
«Свадебная вечеринка»
-
«Дядя Ваня на Маевке» (песни для деревни и для города)
-
«Железный мессия»
-
«Зори грядущего»
-
«Дети города»
-
«Товарищ Варвара»
-
«Завод весенний»
-
«Мона Лиза». Поэма М. П. Герасимова
-
«Завод огнекрылый»
-
«Мститель» Клоделя
Значительная часть этих инсценировок и пьес носили сатирический характер. Вот некоторые из них:
-
«Шефы заседают, подшефные ожидают»
-
«Без дешевой спички не будет смычки»
-
«Чистка вузов»
-
«Суд на самогонщиком»
-
«Хамка»
-
«Буржуй в аду»
-
«Жена ответственного работника»
-
«Курыниха» (суд над знахаркой)
-
«Богомолы»
«Наиболее интересной кажется нам инсценировка, построенная на подлинных документах, – «Ленин и Октябрь»»[102].
Журналы Пролеткульта и рабочих клубов
Пролеткульт и рабочие клубы издавали свои журналы, и их было немало. Уже одни их названия говорят о тех базовых понятиях (труд, творчество, культура, мир, человек), которые выступают ориентиром и ценностью как для авторов, так и для читателей. Вот некоторые из них.
-
«Красное утро»
-
«Наш горн»
-
«Гудки»
-
«Труд и творчество»
-
«Мир и человек»
-
«Зарево заводов»
-
«Грядущая культура»
-
«Развитие форм жизни (введение в биологию)»
-
«Теория культуры и марксизма»
-
«Горн»
-
«В буре пламени»
-
«Рабочий клуб» (тираж 3 тыс. экз.),
-
«Твори» (тираж № 1 за 1920 г. – 10 тыс. экз., № 2 за 1921 г. – 5 тыс. экз., и это в условиях острого дефицита бумаги)[103],
-
«Пролетарская культура»
-
«Грядущее»
-
«Зори»
-
«Труд и творчество»
-
«Рубежи»
Почти каждый журнал определял цели своей деятельности, так сказать – сверхзадачу, и главная из них – это обустройство новой жизни. Вот формулировка, данная редакцией одного из художественных журналов Пролеткульта – «Рубежи» (г. Белев): «И подписывать себе смертный приговор, отказываясь от устроения новой жизни, мы как люди не можем»[104]. Свою позицию по отношению к читателю журнал определил следующим образом: ««Рубежи» отказываются от пролеткультовской замкнутости и нетерпимости, от идеологического гувернантства; страницы журнала доступны каждому вне зависимости от политического, литературного или философского вероисповедания; единственно, чего требуют «Рубежи», это дух человечности и общественности»[105].
Вот некоторые штрихи к тому, какими были пролеткультовские журналы тех лет.
Например, журнал «Рубежи» на самой первой странице после титульного листа размещал не оглавление и не редакционное обращение к читателю, а список допущенных в журнале опечаток. Этот же журнал настоятельно просил своих авторов подавать материалы уже в новой орфографии. Журнал «Грядущее» работал и с теми авторами, которые получили отказ в публикации своих материалов. При этом редакция в конце журнала публиковала персональные замечания каждому из них. Вот, например, какие замечания к авторам были опубликованы в первом номере журнала «Грядущее» в 1919 году:
-
Иванову – «попробуйте написать что-нибудь свое»;
-
Шумскому, Исаковскому – «слабо, товарищи, напечатано не будет»;
-
Тютикову – «старайтесь избегать мертвой ходульности»;
-
Голубеву, Юдин-Соловьеву – «щадите, товарищи, свое и наше время!»;
-
Комикову – «и на будущее вашей музы, судя по присланному, надежды нет»;
-
«Мистер, уволь – интеллигентскому нытью в пролетарской поэзии места нет»[106].
В этом же журнале (1918, № 9) был дан список тех стихотворений, которые редакция отказалась печатать. При этом в качестве редактора был указан «коллектив».
Конечно, вопрос цензуры, особенно в такое время, вставал, и достаточно остро. Вот, например, как этот вопрос решался автором журнала «Рабочий клуб»: «Мы говорим, конечно, не об «изъятии вредных книг», а о соответствующем освещении их путем бесед в читальне, лекций и докладов»[107].
А вот другой пример: «Ставятся иногда пьесы, запрещенные местными губполитпросветами («Живые покойники», «Подлец у власти» проходит под названием «Камера пыток», «Бедный Федя», «» переделана в «Красный фонарь»)»[108].
Детский Пролеткульт
Далее автор хотел обратить внимание читателей на такой малоизвестный, но достаточно яркий феномен общественной практики тех лет, как «Детский Пролеткульт». И прежде всего речь идет об органе Тульской детской коммунистической партии (большевиков). Он тогда находился по адресу: Тула, ул. Бундуринская, 43. Свою организацию активисты называли так: «Детский Пролеткульт – преданный сын Международной Мировой коммунистической революции». Соответственно, их лозунгом был призыв: «Дети пролетариев всех стран, соединяйтесь!».
Но прежде, чем пойдет речь о деятельности Детского Пролеткульта, стоит напомнить о той тяжелой ситуации, в которой оказалась Тула в период гражданской войны. От этого города зависело – быть или не быть революционной России, ибо на Тульских оружейных и патронных заводах держалась вся Красная Армия. В 1918 г. основные запасы оружия и боеприпасов, оставшихся от мировой войны, были уже исчерпаны или оказались захвачены противниками красных. К 1919 г. у красных остались только Тульские оружейный и патронный заводы. Сестрорецкий и Петербургский оружейные заводы не работали в связи с эвакуацией, не говоря уже об их малой мощности. Ижевский был захвачен Колчаком. Луганский патронный завод в 1918 г. был первоначально захвачен немцами, а затем деникинцами. Строящийся Симбирский начал выпуск продукции только с января 1919 г. и находился под угрозой захвата[109]. К этому надо добавить надвигающийся голод, острую нехватку сырья и особенно топлива.
Эта ситуация усугублялась военно-политическим положением. Не случайно В. И. Ленин в октябре 1919 г. писал: «…в Туле массы далеко не наши. Отсюда – обязательна сугубая интенсивность работы… среди рабочих, среди работниц…»[110]. Дело в том, что в этот период «в губернии насчитывалось до десяти тысяч дезертиров, взбунтовалась посланная в Гомель 2-я Тульская бригада, в 1918 году бастовал оружейный завод, в 1919-м бастовали сразу патронщики, оружейники и железнодорожники, в 1920 году опять бастовал оружейный. Забастовки были вызваны крайне тяжелым материальным и продовольственным положением рабочих. Они создавали перебои в снабжении войск. Однако, несмотря на все неурядицы, тульская промышленность, в основном, справлялась с обеспечением Красной Армии во все годы гражданской войны. Даже в тяжелейшем 1920 году оружейный завод поставил в войска 227722 винтовки и 4424 пулемета, рабочие патронного завода изготовили около 230 млн. патронов. Целеустремленность и бескомпромиссность большевистского руководства, не боявшегося пролить кровь ради достижения поставленной цели, способствовали тому, что в 1920 году из 4744 предприятий губернии работало 3567. На них было занято 80840 рабочих. Давали уголь 29 шахт, под землей трудились 11922 человека. Тульские шахтеры дали в 1920 году на-гора на 10 млн. пудов угля больше, чем в 1919 году. Сахарные заводы произвели около 150 тыс. пудов сахара. Мельницы перемололи свыше миллиона пудов зерна»[111].
В связи с развернувшимся летом 1919 г. деникинским «походом на Москву» Тульский край становится прифронтовой полосой.
И вот в этих условиях создается и действует Детский Пролеткульт. Вот как описывает историю его создания одна из первых его активисток Е. Черницкая (14 лет): «Что же это был за Пролеткульт вначале? Это было что-то ужасное! (Во-первых) грязное, запущенное здание, за которым никто не следил. Что же делали члены Пролеткульта? Их же было 350 человек. А что же могли делать дети, вполовину собранные с улицы, вполовину лентяи – буржуйские сынки? Первые были рады, что очутились в тепле и были сыты, вторые же пришли только играть. Получилось то, что в Пролеткульте поднялся Содом и Гоморра, невообразимый галдеж, драки и т. п. гадости. Это продолжалось недели две. Вы спросите, неужели их никто не мог остановить?
Да мог, но не хотел, потому что основатель Пролеткульта хотел, чтобы у детей родилось самосознание. И оно у детей родилось. Нашлись такие, настоящие, чистые, пролетарские дети, которым нужна была работа. И вот они собрались и пошли к т. Пожидаеву и сказали: «Дайте нам занятие. Мы хотим работать». Но их было всего несколько человек, а остальное большинство пока не хотели этого. Т. Пож. сказал, что надо, чтобы работать захотело большинство, тогда можно что-нибудь устроить. Тогда эти дети пошли, собрали всех детей и стали убеждать их бросить галдеж и лентяйничество. Понемногу они взяли власть, покорили эту толпу детей и добились того, что большинство захотело работать.
Только тогда в Пролеткульте появилась I-ая мастерская. Это столярная. С этой первой трудовой коммуны и пошло все строительство Пролеткульта. Дети-столяры поделали скамейки, так как не на чем было сидеть, столы, впоследствии кровати и шкафы для книг в библиотеку. Понемногу остальные дети пришли к заключению, что работать гораздо интереснее, чем бездельничать. С тех пор, как дети начали работать, они уже не хотели жить в грязи. И по их желанию в Пролеткульте появилась необыкновенная чистота. А так как все они делали сами, то уже не позволяли портить и истреблять свой труд никому…. Из Пролеткульта уходили дети, не желавшие работать. Достигнув материального благосостояния, дети не останавливались на этом. Они видели, как кругом них великое множество детей живет ужасной жизнью улиц и подвалов. И вот дети задумались сделать так, чтобы и остальные пользовались тем, чем пользуются они. Для этого они стали ходить по тем местам, где собираются дети рабочих. Стали организовывать их в такие же Пролеткульты. И до сих пор продолжают свою светоносную работу. В этот момент они стараются пробудить также и взрослых своих отцов… И в этот великий, опасный момент дети Пролеткульта не спят …они дают митинги (на которых выступают ораторы дети) в рабочей и красноармейской среде. Для этого они ездили на прифронтовую полосу и по деревням»[112].
И ведь действительно, Детские Пролеткульты создавались в этот период 1919–1920 гг. – при Тульском сахарном заводе, при Тульском патронном заводе, на Судаковском заводе (Косая гора), при 5-м детском питательном пункте, при Детском городке им. Л. Н. Толстого, при Богородицком сахарном заводе.
При открытии Детского Пролеткульта на протяжении всей недели шла запись в его ряды. «Туда попали также дети более состоятельных родителей и буржуа»[113], – писал журнал «Детский Пролеткульт» в 1919 г.
Активисты выполняли самую разнообразную работу, о чем они писали сами: «Хозяйство, начиная с мытья посуды и кончая очисткой снега, а также ведение бухгалтерских и канцелярских книг – все это находится в наших руках»[114]. Причем работа здесь строилась на основе самоуправления и постоянной отчетности. Вот как об этом рассказывали сами дети: «В итоге за эти 8 месяцев, 8 необыкновенных месяцев всеобщей последней борьбы с капиталом, вот чего добились дети пролетариата. … Во внутреннем устройстве 14 мастерских и студий столярная, слесарная, швейная, сапожная, музыкальная, переплетная, художественная, театральная, литературная… Необыкновенная чистота, за которой следит санитарный отряд. Все мастерские работают не только на себя, но и на все Советские учреждения. Только Советская власть поняла, что надо детям. Да здравствует же наша милая дорогая Советская власть!»[115].
В организованных швейных мастерских дети-активисты шили не только для себя и гражданского населения (наволочки, женские рубашки, мужские брюки), но и выполняли заказы для Красной Армии (походные сумки, кисеты, рубашки, мужские брюки).
Работая в обувной мастерской, они с апреля до декабря 1919 г. отремонтировали 850 пар обуви, а также шили ботинки, сапоги, туфли[116].
Примечательно, что отделения Детского Пролеткульта высылали каждую неделю отчеты о проделанной ими работе.
У Тульского Детского Пролеткульта была и своя газета, которую делала литературная студия. Мне удалось найти лишь три номера этой газеты, которые вышли в 1919 г. и в 1920 г. Наиболее активными авторами были Сергей Хайбулин, М. Лебедев, Елена Черницкая, А. Меерович и другие.
На первой странице газеты написано, что все делают исключительно дети.
Видимо, это настолько часто вызывало сомнения у читателей, что по этому поводу активисты Детского Пролеткульта дали специальный ответ: «Многие товарищи сомневаются, не верят тому, что газета «Детский Пролеткульт» издается только детьми, без всякого участия со стороны взрослых. «А кто вам помогает писать стихи и статьи?» На все эти вопросы мы отвечаем вам: «Помогает нам во всех наших делах, а также в издании газеты Великая Октябрьская революция и наш пролетарский разум! Есть ли у нас большой помощник? Есть, имя его Коммунизм!». Но они дали и более конкретный ответ: «Много ли у нас пишут взрослых? На этот вопрос мы ответим иначе. Во-первых, у нас есть председатель Детского Пролеткульта, коммунист, который не допустил бы провокационную надпись, а во-вторых, у нас есть редакционная коллегия, состоящая из детей, и притом коммунистов, которые тоже не допустили бы и не допустят никакого обмана в редактируемой газете. А потому сомневающиеся сами себя глубоко обманывают»[117]. Кстати, в качестве «редактора» этой газеты была заявлена литературная студия Детского Пролеткульта.
Формы деятельности детей-пролеткультовцев были самые разнообразные:
-
Чтение политических книг в военных госпиталях в период Гражданской войны. Так, например, в 1920 г. они дважды выступали в 24-м эвакуационном госпитале перед 180 ранеными красноармейцами[118].
-
Театральные постановки[119].
-
Изготовление плакатов, афиш, рисунков и т. д.[120]
-
Работа в мастерских, в которых дети делали столы, кровати, шкафы для книг, занимались переплетным, швейным, сапожным делом[121].
-
Написание листовок, призывов, обращений. Вот некоторые из таких обращений, исключительно интересных и своим содержанием, и языком, и интонацией:
– «Да здравствует наша первая годовщина сознательной жизни!»[122]
– призыв к борьбе против спекулянтов: «До сих пор все еще такие же дети, как и я сама, сидят на улице и предлагают по дорогим ценам яблоки, конфекты и тому подобное. Товарищи! Кончайте же свою работу на улицах! Довольно заниматься спекуляцией! Долой спекулянтство! Долой развратничество! Все как один в Пролеткульт от Чулковского детского районного Пролеткульта»[123].
– «Дорогие товарищи дети! Эта детская газета не будет заниматься шутками, пустяками и прочее. Она будет спаивать и организовывать тесные, дружные, стальные детские батальоны, которые в нужный момент могут смело и сознательно идти туда, куда потребует великая Октябрьская революция…»[124]
– «Товарищи дети! Не долог тот час, когда мы – дети рабочих и крестьян должны будем вступить в ряды стойких борцов за счастье трудящихся всего мира… Долой шалопайничество, игру в орлянку, хулиганство и т. д. Не время разгильдяйничать, а время взяться за строительство новой светлой, коммунистической жизни…»[125].
– «Октябрьская революция – наша вторая мать»[126].
– Призыв к детям – товарищам коммунистов: «А что мы должны сделать на пользу нашей избавительнице – Октябрьской революции?»[127]
Наряду с этим активисты Детского Пролеткульта помогали создавать подобные организации в соседних районах, делились уже своим опытом. Для этого приходилось много ездить, но эти поездки были делом непростым, тем более для детей – шла гражданская война. Вот как яркий активист Детского Пролеткульта Сергей Хайбулин описывает одну из таких командировок, которая была им предпринята в 1920 г.: «В феврале с/г я был командирован Детским комитетом партии в Епифань для организации Детского Пролеткульта… Пробыв там неделю и организовав что было возможно, я с новым жизненным опытом и сознательной радостью… возвращался обратно в Губернский Детский Пролеткульт … Но так как я ехал на лошадях, то приходилось делать несколько остановок для того, чтобы дать отдых лошадям. Во время таких остановок приходилось разговаривать с крестьянами, которые при всем своем желании не знают: что такое коммунизм? Почему он должен быть?.. На все мучившие их вопросы я отвечал, но этого было мало»[128].
И далее Сергей Хайбулин пересказывает обращение встретившихся ему крестьян в его адрес: «Вы вот сами ездите организовывать детей, вы растете стойкими борцами за свободу и коммунизм, вам есть, за что благодарить Советскую власть. Ну, а наши-то дети, как растут, что они видят хорошего в грязной, закопченной избе? Ни школы для них нет, ни культурного кружка, живут с нами, старыми дураками и учатся, как прятать и продавать муку да клясть большевиков. Вы хотите и требуете, чтобы дети были умны и сознательны, а они растут дураками, а подчас и монархистами, так говорят мало-мальски сознательные крестьяне»[129]. И вот какой он делает вывод: «И я думаю, товарищи, что их требование света, просвещения в деревню вполне законно и основательно… Пора взяться за просвещение почти забытых детей!»[130]
Кроме этого, активисты занимались подготовкой митингов. Следует специально подчеркнуть, что Детский Пролеткульт отчитывался о своей деятельности. Вот отчет Агиткома по митингам за период с 23 февраля по 1 декабря 1919 г. с указанием числа людей, участвующих в них. (Те мероприятия, которые были специально посвящены детской проблематике, подчеркнуты мной. – Л.Б.)
-
23 февраля – митинг в тульском цирке в честь годовщины Революционной Красной Армии – 1500 чел.
-
1 мая – два митинга в Кремле и клубе «Пролетарий» по случаю 1 Мая – 2000 чел.
-
2 мая – митинг в клубе «Пролетарий» «Долой хулиганство среди детей пролетариев» – 500 чел.
-
3 мая – митинг в клубе «Пролетарий» «Октябрьская революция и дети пролетариата» – 300 чел.
-
4 мая – митинг в клубе «Пролетарий» «Завоевания рабочих и крестьян для детей пролетариата» – 300 чел.
-
7 мая – митинг «Наши достижения в области пролетарского строительства» – 1150 чел.; митинг в ремесленной школе оружейного завода «Октябрьская революция и завоевания пролетарских детей» – 500 чел.
-
16 мая – митинг на сахарном заводе «Что делает революционная Красная армия для детей пролетариата» – 800 чел.
-
18 мая – митинг в Кремлевском саду «Почему на нас наступает Деникин и Колчак?» – 2000 чел.
-
22 мая – митинг в цирке «День всеобщего обучения» – 2500 чел.
-
25 мая – митинг в театре «Олимпия» «Наступление контрреволюционеров и натиск мировой контрреволюции» – 1500 чел.
-
30 мая – митинг в цирке «Завоевания детей пролетариата и детей пролетарских стран» – 2000 чел.
-
3 июня – митинг – проводы коммунистов на фронт – 3000 чел.
-
6 июня – митинг в Кремлевском саду «Наступление Деникина и что должен делать детский Пролеткульт» – 1500 чел.
-
8 июня – митинг «Что делает на фронте революционная Красная армия?» – 1000 чел.
-
8 июня – митинг на станции Узловая «Кто делает подрыв Советской власти?» – 2000 чел.
-
9 июня – митинг в г. Богородицке «Что делает тульский пролетариат в революционную ответственную минуту» – 500 чел.
-
10 июня – митинг в 5-й советской школе I ступени в г. Богородицке «Что делают дети пролетариата?» – 800 чел.
-
10 июня – митинг в 7-й советской школе I ступени в г. Богородицке «Какая должна быть наша пролетарская культура?»
-
11 июня – митинг на вокзале станции Жданка «Наступление Деникина на рабочий класс, и что дала свобода» – 1000 чел.
-
12 июня – митинг на копях Товарково «Дети пролетарской культуры и как пол. дол. быть стар. отц. и братьев» – 3000 чел.
-
15 июня – митинг в Кремлевском саду «Что из себя представляет Октябрьская революция для детей пролетариата?» – 200 чел
-
24 июня – митинги в поезде «Октябрьская революция» «Что дала Октябрьская революция для детей пролетариата и что дала детям Красная армия?» – 5000 чел.
-
19 июля – Открытие интерната (митинг по текущему моменту) – 200 чел.
-
22 июля – митинг «Что из себя представляют Деникин и Колчак?» – 2000 чел.
-
26 июля – митинг в суворовских казармах «Почему у нас сейчас дезертирство?» – 4000 чел.
-
30 июля – митинг в Тульском караульном батальоне «Почему буржуазия устраивает против рабочих заговор» – 300 чел.
-
31 июля – митинг в Тульском караульном батальоне «Как расправляется революционная Красная армия со всей белогвардейщиной» – 300 чел.
-
3 августа – митинг в барачном городке «Советская власть и как к ней относится контрреволюция?» – 4000 чел.
-
5 августа – митинг в барачном городке «Революционные рабочие и крестьяне на юге» – 4000 чел.
-
6 августа – митинг в ЧК «Борьба с контрреволюцией и наша очередная задача» – 200 чел.
-
8 августа – митинг в красных казармах «Наше положение» – 800 чел.
-
9 августа – митинг в 37-й советской школе I ступени «Задача детей пролетариата» – 100 чел.
-
10 августа – митинг в Скобелевских казармах «Пролетарская культура» – 1000 чел.
-
15 сентября – 8 митингов по детским столовым с резолюцией по поводу покушения в Москве – 6000 чел.; митинги в Скобелевских казармах «Покушение на пролетарских вождей в гор. Москве» – 800 чел.
-
5 октября – 2 митинга «Достояние детей пролетариев с момента Октябрьской революции» – 3000 чел.; митинг в Корачевских комитетах города Епифани «Октябрьская революция и дети пролетариата» – 80 чел.
-
6 октября – митинг в театре «Олимпия» «Призыв к защите красной Тулы» – 10000 чел.
-
7 октября – митинги в бараках гор. Епифань – 2080 чел.
-
8 октября – митинг в Малоденовской коммуне гор. Епифани «Достояние детей пролетариата и Октябрьская революция» – 100 чел.
-
9 октября – митинг «Положение детей до Октябрьской революции» – 300 чел.
-
11 октября – митинг в шахтах для детей «Положение детей пролетариата до Октябрьской революции» – 500 чел.
-
12 октября – митинг в вагоне среди дезертиров «Долой проклятое дезертирство!» – 30 чел.
-
19 октября – митинг в Детском Пролеткульте для районной библиотеки «Буржуазная культура и пролетарская культура» – 70 чел.
-
20 октября – митинг на станции Горбачево в местном гарнизоне «Наступление генерала Деникина» – 1000 чел.; митинг в бронепоезде «Смерть директории»«Наступление Деникина на рабоче-крестьянскую Россию» – 200 чел
-
22 сентября – митинг в «доме Карла Маркса» в г. Белеве «Наступление на красную Тулу и что в мом. дел.» – 1500 чел.
-
23 октября – митинг в «доме Карла Маркса» в г. Белеве для детей «Наступление Деникина и работа Детского Пролеткульта» – 1500 чел.
-
24 октября – митинг в «доме Карла Маркса» в г. Белеве «Дети пролетариата и Октябрьская революция» – 15000 чел.
-
25 октября – митинг в школе им. Ломоносова «Как организовался Детский Пролеткульт» – 200 чел.
-
27 октября – митинг в театре деревни Манаенки «Призыв к защите рабоче-крестьянской Советской России» – 500 чел.
-
28 октября – три митинга во Мценске «Советская власть и дети пролетариата» – 1000, 1000 и 1500 чел.
-
29 октября – митинг на вокзале ст. Чернь «Наше положение на всех фронтах» – 100 чел.
-
7 ноября – митинг в Петровском городке «Наш детский пролетарский день» – 300 чел.
-
9 ноября – 9 митингов во всех театрах и кинематографах «День пролетарских детей и юношества» – 13000 чел.
-
23 ноября – митинг в 30-м воздухоплавательном отряде «Год детской пролетарской культуры» – 800 чел.
-
26 ноября – митинг в агентпункте на Курском вокзале «Работа детей пролетариата в тылу» – 300 чел.
-
29 ноября – митинг в 36-м авиационном отряде «Наши очередные задачи» – 800 чел.
-
30 ноября – митинг в 30-м воздухоплавательном отряде «Прежде и теперь и наши очередные задачи» – 800 чел.
-
1 декабря – митинг в агентпункте на Курском вокзале «Наше положение теперь и раньше» – 500 чел.
Итак, в 1919 году Детский пролеткульт г. Тулы в тесном сотрудничестве с другими организациями участвовал в подготовке и проведении 83 митингов суммарной численностью 105380 человек. На этих митингах выступали такие активисты Детского Пролеткульта, как Лебедев, Хайбулин, Иванов, Владимиров, Томкин, Довгард, Жабров, Александров, Пономарев, Пирогов[131].
Этот отчет показывает, как работали, отдавая все силы, а то и жизнь, как взрослые, партийные и беспартийные, так и дети в том 1919 году, когда решался вопрос – быть или не быть революции, а значит – жить или не жить всем этим людям. Вот почему этот отчет – пощечина сегодняшней российской власти и вызов российскому обществу. Несмотря на все трудности положения того времени, вопрос о детях для большевиков был главным, вопрос защиты Советской власти – средство для его решения.
Сегодня, в либеральной России отношение к детям – это не только боль, позор и преступление, но еще и приговор всему политическому курсу власти, приговор режиму в изначальной бесперспективности либеральной стратегии. У российского либерального курса есть только одна перспектива, ставшая уже реальностью: для властного режима – позорное поражение, для российского общества – тотальное разложение.
Проблемы клубов Пролеткульта и рабочих клубов 20-х гг.
Практика рабочих клубов была чрезвычайно богата и своими достижениями, и своими противоречиями, и проблемами, с которыми сталкивались их активисты. И причин для этого было много: гражданская война, разруха, отсутствие элементарных условий для жизни и учебы, низкий уровень культуры и образования рабочих и крестьян, неизжитость мещанства и других сторон дореволюционного патриархального наследия. Кроме того, создание и налаживание деятельности рабочих клубов для активистов было делом новым и достаточно сложным. Этот вид деятельности требовал от них многого, в том числе:
-
налаживания реального содержания рабочего клуба;
-
обеспечения и поддержания его организационного ритма;
-
создания творческой атмосферы в рабочем клубе;
-
умения убедить заводских рабочих в том, что для них почему-то жизненно важно после тяжелой смены заниматься творчеством;
-
способности выстроить отношения конструктивного сотрудничества с разными общественными организациями;
-
понимания той общей стратегии, которое определяет значение клубной работы в общем деле созидании нового общества и мн. др.
Соответствовать всем этим требованиям было очень непросто. Во-первых, сам состав приходящих в клубы был очень разным и по уровню культуры, и по мотивации. Приходили в клуб не только те, кто хотел включиться в общественную и творческую жизнь, но и те, кого можно было назвать сторонними наблюдателями. Сломать это любопытствующее равнодушие, вызвать конструктивный интерес к делу совместного выстраивания новой культурной политики – такую задачу нельзя было решить лишь одними агитационными атаками, она требовала долгосрочной работы.
Далее мы перечислим те проблемы клубной деятельности, которые, по мнению, самих активистов, требовали своего первоочередного решения. Вот как они сами их определили:
«слабо развернуто массовая работа,
маленькие помещения клубов,
проблема повышения квалификации культработников,
неправильный уклон в работе драмкружков,
проблема дисциплины,
ругань в стенах клубов,
драки молодых с чужими ребятами, пришедшими в наш клуб,
скандалы пьяных,
семечки без конца,
кое-какство,
разгильдяйство,
нет учета в работе клуба,
слабая самодеятельность,
почему взрослые не идут в клубы?»
Но были проблемы, вызванные положением уже самих клубных работников, причем нередко они обретали настолько серьезный характер, что по этому поводу был даже организован анкетный опрос. Результаты этого опроса показали, что одной из важнейших проблем был вопрос уровня образования самих клубных работников и качество их деятельности. Вот какие типичные ответы были даны заведующими клубами в московском Cоюзе металлистов на вопросы о том, сколько часов ими тратится на различные виды работы в клубе:
-
«Днем – 8 часов, вечером – 6 часов. Всего 14–18 час. [тратится на работу в клубе – Л.Б.]… На работу среди членов клуба [уходит – Л.Б.] прибл. 4 [часа – Л.Б.]. Остальное на административно-хозяйственную работу. Самоподготовка и чтение газет – ночью с 1–3 час., на посещение курсов – 4 часа в неделю. … Штат – 1 уборщик. Когда он убирает клуб, я топлю печи и наоборот»[132].
-
«С 9–10 час. утра до 5 вечера ежедневно подготовительная работа; с 5 веч. до 12–2 ночи практическое проведение работ. В среднем 12–14 часов в день. … на самоподготовку остается очень мало времени, иногда не успеваешь прочесть газет. Самоподготовка – ночью, перед сном, и участие в различных комиссиях»[133]
Наряду с этим клубные активисты указывали и на другие проблемы:
-
«Правление неработоспособно»[134].
-
Трения между завклубом и ячейкой[135].
-
«…оклад 44 руб. 40 копеек. Безусловно, не хватает, нужно покупать товары, пособие, литературу, а у меня – семья. Жалованье выплачивают с опозданием»[136].
-
«Как дать интересное массовое содержание работы, когда, например, агитпроп не разрешает поставить вечер вопросов на тему «Партия и оппозиция», а фабком – тему о колдоговоре»»?[137].
Следует отметить, что в пролеткультовских и других журналах, посвященных клубной работе, всегда публиковались критические и самокритические статьи – о халтуре, о хулиганстве в клубах и т. д.[138].
По-марксистски завершить эскизный портрет того, чем жили и что делали клубные активисты и студийцы, следовало бы противоречиями Пролеткульта, но этот вопрос, требующий специального рассмотрения, как раз и будет предметом следующей статьи автора.
Заключая, можно сказать, что практики низовой самодеятельности Пролеткульта имели огромное значение, но оно обреталось именно в обход богдановской установки на создание пролетарского искусства как нового и особого вида искусства, создаваемого преимущественно пролетариатом. Это не значит, что в рамках Пролеткульта не было создано ни одного подлинно художественные явления. Отдельные явления и события были, но не искусство в целом как таковое. Что же тогда рождалось в процессе той творческой и неутомимой деятельности, которую осуществляли массовые низовые структуры Пролеткульта?
А создавали они, прежде всего, те общественные механизмы и формы, которые были необходимы для преодоления их отчуждения от культуры: это и организация дискуссий по поводу самой этой проблемы; это и просветительские трибуны для восполнения образовательного уровня рабочих; это и кружки для творческих занятий и т. д. Кроме того, это требовало создания механизмов взаимодействия с другими общественными организациями на основе деятельностной солидарности. Одним словом, для решения такой задачи, как преодоление отчуждения от культуры, революционные массы должны были становиться субъектом социального творчества, понимая под этим творчество новых общественных отношений, в данном случае по поводу культуры. А это в свою очередь было связано с необходимостью решения целой цепи социальных противоречий. Конечно, такой путь связан с большим риском, причем как для его субъекта, и для самой действительности. И, тем не менее, все это вместе становилось живой и потому самой прочной предпосылкой развития и обретения диалектического единства культуры, революции и масс. Разрешение этих противоречий рождало новую жизнь и Нового человека.В связи с этим хотелось бы привести выдержку из обращения редакционной коллегии журнала «Рубежи» к своим читателям:
«…мы живем не в обычное время. Революция до последних глубин всколыхнула нашу жизнь, сломала и выбросила привычное и установившееся. И подписывать себе смертный приговор, отказываясь от устроения новой жизни, мы как люди не можем.
«Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано…» – язвит скептик.
Ничего не свершает только тот, кто не имеет этих порывов; и, вам, наши милые скептики, мы вверяем судьбу своего начинания. Неизбежные первые неудачи – наша вина, необходимые дальнейшие успехи – ваша заслуга»[139].
[1] Булавка Л. Пролетарская культура: культура для пролетариата? // Альтернативы. 2011, № 4. С. 41–51.
[2] Булавка Л. Пролеткульт: проблема наследия. Отношение Пролеткульта к «буржуазной культуре» // Альтернативы. 2012, № 1. С. 4–32.
[3] Воспоминания оппозиционера 1920-х годов были представлены публике в Петербурге. От нашего корреспондента 8 декабря 2001 г.
http://www.wsws.org/ru/2001/dez2001/pres-d08_prn.html
[4] Книжник Ив. Октябрьская революция и культура. (К четырехлетней годовщине) // Грядущее. 1921, № 9–12. С. 73.
[5] По СССР // Рабочий клуб. 1926, № 8. С. 63.
[6] См.: Пинегина Л. А. Советский рабочий класс и художественная культура. 1917–1932 гг. М., 1984. С. 99.
[7] Культурная поездка по Волге // Гудки. 1919, № 2. С. 29.
[8] См.: Пинегина Л. А. Советский рабочий класс и художественная культура. 1917–1932 гг. М., 1984. С. 100.
[9] См.: Пинегина Л. А. Советский рабочий класс и художественная культура. 1917–1932 гг. М., 1984. С. 73–74.
[10] См.: Там же. С. 74, 75.
[11] См.: Там же. С. 116–118.
[12] Иванов А. Вновь о принципах клубной работы // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 4.
[13] Там же.
[14] Там же.
[15] Там же.
[16] Там же
[17] От редакции // Рубежи. Художественно-литературный и критико-публицистический журнал литературной студии Белевского Пролеткульта. Книга первая. 1922. С. 5–6.
[18] Там же. С. 5.
[19] Пролетарская культура. 1919, № 1 (30 марта). С. 2.
[20] Там же.
[21] Гиппиус З. Ничего не боюсь // Черные тетради. М., 2004. С. 430–431.
[22] Там же. С. 448.
[23] См.: Маркевич Т. Советские физкультурники на Западе // Рабочий клуб. 1926, № 11. С. 76.
[24] Там же. С. 77.
[25] Скачков М. «Синяя блуза» в Чехословакии // Рабочий клуб. 1926, № 11. С. 75.
[26] Рабочий клуб. 1926, № 11. С. 77.
[27] Иванов А. Вновь о принципах клубной работы // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 3.
[28] Там же.
[29] Шо. Пролетарская культура // Пролетарская культура. 1919, № 1 (30 марта). С. 21.
[30] См.: Херсонская Е. Дискуссия в клубе // Рабочий клуб. 1924, № 5.
[31] См.: Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 23.
[32] Гинзбург Р. Партколлективы и самодеятельность // Рабочий клуб. 1925, № 7 (19). С. 3.
[33] Иванов А. Вновь о принципах клубной работы // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 4.
[34] Там же.
[35] М.Р. Клубная работа в комвузе // Рабочий клуб. 1924, № 9. С. 82.
[36] Петроградский Латышский рабочий театр // Грядущее. 1918, № 9. С. 22.
[37] Грядущее. 1919, № 7–8. С. 31.
[38] Гербек З. Еврейский рабочий клуб и ОЗЕТ // Рабочий клуб. 1927, № 1. С. 62.
[39] Март В. Клубы на далекой советской окраине (Владивосток) // Рабочий клуб. 1927, № 2. С. 56.
[40] Там же. С. 57.
[41] Там же.
[42] Там же.
[43] Там же.
[44] Там же.
[45] Гинзбург Р. Партколлективы и самодеятельность // Рабочий клуб. 1925, № 7 (19). С. 3.
[46] Там же.
[47] Там же. С. 4.
[48] Трутко Р. Партколлективы в клубах // Рабочий клуб. 1924, № 6. С. 3.
[49] Там же.
[50] От редакции // Рубежи. Художественно-литературный и критико-публицистический журнал литературной студии Белевского Пролеткульта. Книга первая. 1922. С. 5.
[51] От редакции // Рубежи. Художественно-литературный и критико-публицистический журнал литературной студии Белевского Пролеткульта. Книга первая. 1922. С. 4.
[52] Плетнев В. Что такое обыватель (тезисы доклада) // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 41.
[53] Там же.
[54] Там же. С. 39.
[55] Там же. С. 40.
[56] Там же.
[57] См.: Там же. С. 39.
[58] Там же. С. 41.
[59] Плетнев В. Что такое обыватель (тезисы доклада) // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 40.
[60] От редакции // Рубежи. Художественно-литературный и критико-публицистический журнал литературной студии Белевского Пролеткульта. Книга первая. 1922. С. 5.
[61] Там же.
[62] Клуб «Крылья коммуны». (Фамилия автора не указана.) // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 63.
[63] Иркутов А. Как строить уголок безбожника // Рабочий клуб. 1925, № 12. С. 30–32.
[64] Волков Мих. Из прошлого // Твори. 1921, № 3–4 (20 сентября). С. 23.
[65] Вительс. Поповские слезы // Рабочий клуб. 1925, № 8–9. С. 64.
[66] Как клубы должны втягивать рабочих в изучение производства // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 25.
[67] Там же. С. 26.
[68] Плетнев В. Что такое обыватель (тезисы доклада) // Рабочий клуб. 1924, № 5. С. 40.
[69] См.: Сербский А. Ликвидация картежных игр // Рабочий клуб. 1925, № 8–9.
[70] См.: Гудки. 1919, № 2 (апрель). С. 15.
[71] См.: Грядущее. 1918, № 9. С. 21.
[72] Шо. Пролетарская культура // Пролетарская культура. 1919, № 1 (30 марта). С. 20.
[73] ПУР – Политическое Управление Реввоенсовета республики.
[74] См.: Пролеткульт и фронт // Твори. 1920, № 1. С. 19.
[75] За первую половину 1920 г. только в одной 16-й армии Западного Фронта было сыграно 259 спектаклей, которые посмотрели 149470 бойцов. (Пинегина Л. А. Советский рабочий класс и художественная культура. 1917–1932 гг. М., 1984. С. 200.)
[76] Материалы по организации суда над Парижской коммуной // Рабочий клуб. 1925, № 1. С. 52.
[77] Там же. С. 61.
[78] Там же. С. 65.
[79] Вольдемар. Задачи работы кружка по быту и способы выполнения их на практике // Рабочий клуб. 1924, № 6. С. 40.
[80] См.: Рабочий клуб. 1924, № 9. С. 24.
[81] Гудист Ст. Живой журнал в рабочих клубах // Рабочий клуб. 1924, № 9. С. 23.
[82] См.: Нагорный Г. Молодежь в туристы-разведчики (массовый туризм и индустриализация) // Рабочий клуб. 1927, № 6. С. 25.
[83] Нагорный Г. Массовый пролетарский туризм // Рабочий клуб. 1927, № 5. С. 31.
[84] См.: Библиотечные преступники // Рабочий клуб. 1927, № 6. С. 37.
[85] Сосенко С. 6 месяцев на заводе «Динамо» // Рабочий клуб. 1928, № 9–10. С. 64.
[86] Гудки. 1919, № 2. С. 29.
[87] Соревнования по музыкальной работе // Рабочий клуб. 1927, № 6. С. 63.
[88] См.: Рабочий клуб. 1926, № 8. С. 61.
[89] См.: Симкин Б. Юридическая работа в клубах // Рабочий клуб. 1927. № 3–4.
[90] См.: Голубничий И. Учеба по радио // Рабочий клуб. 1928, № 11–12.
[91] Савельева Т. Художественная работа // Рабочий клуб. 1925, № 12. С. 72.
[92] Книжник Иван Сергеевич. В Ленинградском Пролеткульте в 1919–1921 гг. (Воспоминания). http://proletcult.ru/?p=219
[93] Там же.
[94] Якимов М. Бежецкий клуб им. тов. Ленина // Рабочий клуб. 1924, № 6. С. 64.
[95] См. Рабочий клуб. 1927, № 1. С. 67.
[96] Там же. С. 68–69.
[97] Ходоровский И. Звуки на пальцах // Рабочий клуб. 1927, № 2. С. 56.
[98] Д. С. Литературные среды // Твори. 1921, № 2. С. 34.
[99] См.: Твори. 1921, № 2. С. 34.
[100] Р. Г. Агит-репертуар // Рабочий клуб. 1924, № 9. С. 83.
[101] Гудист Ст. Живой журнал в рабочих клубах // Рабочий клуб. 1924, № 9. С. 24.
[102] Р. Г. Агит-репертуар // Рабочий клуб. 1924, № 9. С. 83.
[103] См.: Твори. 1920, № 1.
[104] От редакции // Рубежи. Художественно-литературный и критико-публицистический журнал литературной студии Белевского Пролеткульта. Книга первая. 1922. С. 6.
[105] Там же.
[106] Ответы авторам // Грядущее. 1919, № 1. С. 24.
[107] Рабочий клуб. 1926, № 6. С. 51.
[108] Савельева Т. Рабочий клуб. 1925, № 12. С. 72.
[109] См.: События 1919 года в Туле и губернии.
http://www.tounb.ru/tula_region/historyregion/histori_fakts/sobitiya_32….
[110] Г. Н. Каминскому, Д. П. Оськину, В. И. Межлауку // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 65.
[111] Участие туляков в гражданской войне. http://tula-foto.ru/?page_id=1036
[112] Черницкая Е. Восемь месяцев работы // Детский Пролеткульт. 1919, № 1. С. 2.
[113] Там же.
[114] Детский Пролеткульт. 1920, № 4. С. 4.
[115] Черницкая Е. Восемь месяцев работы // Детский Пролеткульт. 1919, № 1. С. 2.
[116] См.: Детский Пролеткульт. 1919, № 3. С. 4.
[117] Детский Пролеткульт. 1920, № 4. С. 1.
[118] См.: Детский Пролеткульт. 1920, № 4. С. 3.
[119] См.: Детский Пролеткульт. 1920, № 3. С. 3.
[120] Там же.
[121] См.: Детский Пролеткульт. 1920, № 3. С. 4.
[122] Там же.
[123] Детский Пролеткульт. 1920, № 4. С. 3.
[124] Хайбулин, Лебедев. От редакции // Детский Пролеткульт. 1919, № 1. С. 1.
[125] Там же.
[126] Детский Пролеткульт. 1919, № 1. С. 3.
[127] Там же.
[128] Хайбулин Сергей. Моя командировка // Детский Пролеткульт. 1920, № 4. С. 2.
[129] Там же.
[130] Там же.
[131] См.: Отчет Агиткома с 23-II по 1-XII 1919 г. // Детский Пролеткульт. 1920, № 4. С. 3–4.
[132] Условия работы завклубов // Рабочий клуб. 1924, № 2. С. 52.
[133] Там же.
[134] Там же. С. 53.
[135] Там же.
[136] Там же.
[137] Рабочий клуб. 1926, № 11. С. 33.
[138] См.: Почему взрослый рабочий не идет в клуб // Рабочий клуб. 1926, № 3. С. 59–61; Рабкоры и клубкоры о хулиганстве // Рабочий клуб. 1926, № 2. С. 76-81; Дм. Богомолов. Хал-протокол-тура // Рабочий клуб. 1927, № 6. С. 53–57.
[139] От редакции // Рубежи. Художественно-литературный и критико-публицистический журнал литературной студии Белевского Пролеткульта. Книга первая. 1922. С. 6.
-
Деятельность обществ «Долой неграмотность» и «Воинствующих безбожников». Движение «Пролеткульта»
До
Октябрьской социалистической революции
большая часть населения России (более
70%) была неграмотной. Ликвидация
неграмотности взрослого населения
рассматривалась как первоочередная
задача советской власти. Ленин четко
сформулировал проблему «Неграмотный
человек стоит вне политики». Необходимо
было не только научить людей писать и
читать, но и через процесс обучения
воздействовать на их умонастроение.
Работой
ликвидации неграмотности занимался
Наркомпрос.
В декабре 1919 г. СНК
принял декрет «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР», по которому все
население от 8 до 50 лет обязано было
обучаться грамоте на родном или русском
языке. В декрете предусматривалось
сокращение рабочего дня на 2 часа для
обучающихся, с сохранением заработной
платы.
В годы гражданской
войны организовать эту работу в массовом
масштабе не удалось. Не хватало книг,
бумаги, карандашей, учительских кадров.
В 1920 г. в Наркомпросе
была создана Всероссийская Чрезвычайная
комиссия по ликвидации неграмотности.
Методы работы этой комиссии были очень
жесткими. Уклоняющихся от учебы либо
лишали продовольственных карточек,
либо объявляли дезертирами, арестовывали
и насильно приводили в школы ликбеза.
Но административно-репрессивные меры
не увенчались успехом, а вызывали только
недовольство населения.
В 1923 г. было создано
массовое общество «Долой
неграмотность»,
председателем которого был объявлен
М.И. Калинин.
К середине 20-х
годов многое было сделано для ликвидации
неграмотности взрослого населения. К
1926 году уже 51% населения был грамотным.
Число неграмотных постоянно пополнялось
за счет подростков. Стало ясно, чтобы
полностью ликвидировать неграмотность,
необходимо ввести всеобщее обучение
для детей.
С переходом к нэпу
в стране постепенно восстанавливалась
экономика. Несмотря на многочисленные
трудности, жизнь принимала нормальный
облик.
Развернулась
антирелигиозная пропаганда. Но вопреки
этой пропаганде, потихонечку отмечали
пасху, крестили детей, служили молебны
в церквах. Венчаний было все меньше и
меньше: молодежь предпочитала гражданский
брак. В моде были новые имена для
новорожденных, отражающие дух революционной
эпохи. В загсах висели рекомендательные
списки с именами: Индустрия, Октябрина,
Коммуна, Идея – для девочек; Червонец,
Спартак, Текстиль, Владлен, Марлен –
для мальчиков.
Антирелигиозная
пропаганда усилилась в середине 20-х
годов. В 1925
г. была создана общественная организация
«Союз
воинствующих безбожников»,
начался выпуск массового журнала
«Безбожник». В
Казанском и Исаакиевском соборах в
Ленинграде и Страстном монастыре в
Москве открылись антирелигиозные музеи.
После смерти патриарха Тихона в 1925 г.
власти не допустили выборов нового
патриарха. Коммунистическая партия
закрепила за собой монополию на духовную
жизнь общества и приступила к реализации
задачи воспитания «нового человека» и
новой пролетарской интеллигенции.
К началу 30-х годов
начался антицерковный террор. С
большинства памятников старины, связанных
с «религиозными культами», была снята
охрана. В старинных русских городах –
в Твери, Рязани, Нижнем Новгороде, Самаре,
Туле и др. – грабили, сносили и разрушали
ценнейшие памятники архитектуры. Очень
пострадала Москва. Москва потеряла
около трети памятников зодчества,
включая церковь Спаса на Бору 1330 г.,
Чудов и Вознесенский монастыри в Кремле,
Сухареву башню, Красные ворота, Храм
Христа Спасителя. Закрывались музеи
усадебного типа, здания передавались
в коммунальное хозяйство. По мере арестов
проводились чистки библиотек от книг
репрессированных авторов.
Особое положение
среди общественных организаций занимал
Пролеткульт,
созданный в сентябре 1917 г. и просуществовавший
до 1932 г. Это
была культурно-просветительная и
литературно-художественная организация.
Эта организация объединяла рабочих
литературных кружков, театральных и
художественных студий. Пролеткульт
ставил перед собой задачу создать новую
пролетарскую культуру, развить
пролетарскую науку, разработать
пролетарскую философию и подчинить
искусство интересам пролетариата.
Ее теоретики А.А.
Богданов, В.Ф. Плетнев утверждали, что
пролетарская культура может быть
создаваема только представителями
рабочего класса. Они отрицали классическое
культурное наследие, за исключением
тех художественных произведений, в
которых обнаруживалась связь с
национально-освободительным движением.
Они выступали за создание «чистой»
пролетарской культуры, и
выбрасывали «на свалку истории» все
культурные достижения и традиции
прошлого.
Известно, что
развитие культуры – это единство
освоения предшествующей культуры и
создания новых культурных ценностей.
Источником развития культуры является
деятельность каждого нового поколения.
Эта деятельность осуществляется в
каждый конкретный исторический период
на базе того, что было создано до него
более ранними поколениями людей, и
обязательно включает в себя наследование,
освоение и переработку прошлого опыта.
Должна существовать историческая связь,
культурная преемственность между
поколениями. Пролеткульт это отрицал.
Деятельность Пролеткульта была
подвергнута резкой критике руководством
большевистской партии.
Расцвет деятельности
Пролеткульта относится на 1918-1920 гг.,
когда он объединил более полумиллиона
человек. В декабре 1920 г. было опубликовано
решение ЦК о Пролеткульте, где отвергались
попытки выдумывать особую пролетарскую
культуру. На первый план ЦК ставил задачу
преодоления культурной отсталости.
Деятельность Пролеткульта была полностью
подчинена требованиям партии. Ее сеть
сокращалась. Формально она продолжала
существовать до 1932 г., когда было принято
постановление «О перестройке
литературно-художественных организаций».